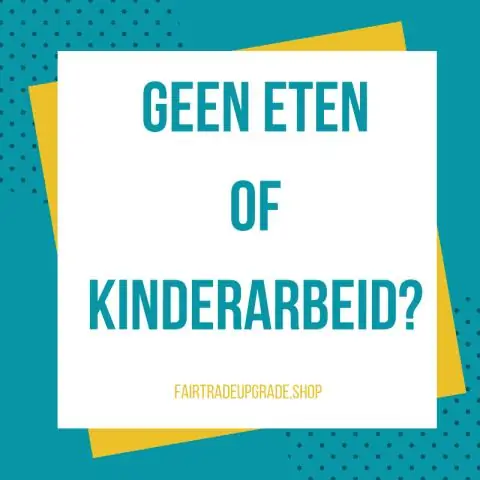Один из первых лидеров церкви, Николай, был призван в Апокалипсисе св. Иоанна с предупреждением о том, что те, кто последует его руководству, столкнутся с противостоянием со стороны Иисуса. Он сказал, что выступит против них с «мечом» уст Своих (то есть справедливости):
Так и у вас есть сторонники учения николаитов. Покайся тогда. Если нет, то я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. (Откр. 2:15-16 RSV).
Николай был избран апостолами одним из первых семи диаконов церкви. Во время своего рукоположения он казался добрым и праведным человеком, исполненным Святого Духа:
И двенадцать, созвав тело учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставляя проповедь слова Божия, служить трапезам. Итак, братья, выберите из своей среды семь человек с хорошей репутацией, исполненных Духа и мудрости, которых мы можем назначить на эту обязанность. Но мы посвятим себя молитве и служению слова». И понравилось сказанное ими всему множеству, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, прозелита Антиохийского. (Деяния 6: 2-5 RSV).
Что пошло не так? За что именно Николая критиковали в Апокалипсисе? Мы можем найти некоторые подсказки у раннехристианских писателей. Святитель Ириней предположил, что это произошло из-за аморального поведения:
Николаит был учителем Николая, одного из семи, которые первыми были рукоположены апостолами. Они жили разнузданной жизнью. Что это за люди, полностью раскрывает Апокалипсис Иоанна, ибо они утверждают, что нет разницы между блудом и вкушением пищи, принесенной в жертву идолам.[1]
Св. Исидор Севильский, следуя дальнейшим намекам, переданным ему из традиции (с письменами, которых у нас больше нет), пошел еще дальше и сказал, что Николай бросил свою жену, отдав ее другим, которые хотели быть с ней:
Николаиты (Nicolaita) называются так от Николая, диакона Иерусалимской церкви, который вместе со Стефаном и другими был рукоположен Петром. Он бросил свою жену из-за ее красоты, чтобы ею мог наслаждаться всякий, кто хотел; практика превратилась в разврат с обменом партнерами по очереди. [2]
Св. Климент Александрийский не был уверен, были ли виноваты Николай или те, кто называл себя его последователями; он считал Николая строгим аскетом, который возненавидел плоть.[3] Тем не менее, он утверждал, что николаиты верили, что Николай отдал свою жену любому, кто хотел быть с ней.[4] В любом случае плоть вызывала отвращение, и именно в результате аскетических идеалов стала дозволена инверсия морали, когда отвращение к плоти проявлялось через половую распущенность вместо целомудрия. Но все же, читая историю дальше, независимо от того, был ли Николаус виновен в том, что утверждали его последователи, то, что продвигалось от его имени, было не только отвратительным, но и формой ритуального сексуального насилия. Говорят, что его жена подвергалась насилию как способу надругательства над плотью. Независимо от того, был ли Николай лично виновен и сделал то, что утверждалось, как думали Ириней и Исидор, или его идеи были незаконно присвоены его последователями, как предполагал Климент, проблема остается: николаиты представляют собой ранний случай сексуального насилия в истории церкви. Женщины рассматривались как «плоть», которую нужно было отдать и передать любому, кто хотел оскорбить их; это злоупотребление было справедливо осуждено в Апокалипсисе с недвусмысленным определением. Его нужно было ненавидеть, а ненависть к таким оскорблениям есть что-то хорошее (не потому, что ненависть сама по себе хороша, а потому, что противодействовать злым действиям хорошо):
Вспомни же, от чего ты отпал, покайся и твори дела, которые делал прежде. Если нет, то Я приду к тебе и сдвину твой светильник с места, если ты не покаешься. Но это у вас есть: вы ненавидите дела Николаитов, которые и я ненавижу. (Откр. 2:5-6 RSV).
Видя связь между Николаем и сексуальным насилием, становится ясно, что сексуальное насилие было в церкви с самого начала. Он также был осужден с самого начала. Но он остается с нами и, подобно бедным, будет с нами до скончания века. Это не значит, что когда мы его найдем, мы ничего не должны делать. Нет. Так же, как бедняки нуждаются в нашей помощи, так и те, кто подвергается насилию со стороны членов церкви, нуждаются в нашей помощи; подобно тому, как богатые, способные помочь бедным, судятся за свое презренное поведение и осуждаются за отсутствие милосердия, так и духовенство должно быть осуждено и осуждено за вред, который они причиняют. Когда клерикальные злоупотребления не предотвращаются, а остаются безнаказанными, то не следует удивляться, как в случае с николаитами, возникают дальнейшие формы разврата и провозглашаются чем-то хорошим.
Св. Петр Дамиан, который в свое время был свидетелем широко распространенного злоупотребления духовенством, когда епископы и священники думали, что их власть позволяет им делать все, что они хотят, много писал против такого злоупотребления, требуя, чтобы тот, кто использовал власть как средство для совершения такого злоупотребления, был достаточно наказан. В письме к Папе Николаю II Петр Дамиан указал на участь тех, кто не будет справедливо наказывать такое злоупотребление:
Тот, кто не наказал своих подданных, должен справедливо понести наказание от верховного судьи и будет заслуженно подвергаться нападению льва, «который рыщет вокруг, ища, кого бы поглотить», так как по своей лени инерции он не смог навязать спасительное покаяние. [5]
История Финееса в Писании, сказал он, указывает на благословения, которые должны произойти с теми, кто подвергается справедливым наказаниям:
Что мы должны понимать во всем этом, как не то, что преступление прелюбодеяния, совершенное именитыми людьми, должно караться более строго? И тот, кто возбуждается наказывать таких людей, несомненно, обретает мир от небесного судьи и благодать не только для себя, но и для людей.[6]
Иногда священников справедливо осуждали. Но важнее было смотреть на епископов. Если они были небрежны, то тоже заслуживали осуждения. Питер Дамиан сказал, что это абсурдно, когда их преступления игнорируются:
Ибо мы действительно наказываем акты нечистоты, совершаемые священниками в низших чинах, но с епископами, мы выражаем свое благоговение молчаливой терпимостью, что совершенно абсурдно. [7]
История церкви показывает, что многие церковные власти совершали отвратительные преступления. Игнорирование недостатков епископов, игнорирование преступлений духовенства, игнорирование того, как невинные, хорошие люди пострадали от рук церковных служителей, может быть формой апологетики, но это вредит любой подлинной попытке понять церковную историю. и реальность зла, которое находится рядом с добром. Святость церкви связана с благодатью Божией; есть много тех, кто сотрудничает с ним и становится с ним единым целым и таким образом становится святым. Другие, однако, злоупотребляют им, причиняя вред братьям-христианам, и таким образом они все еще являются частью церкви, и мы должны признать вред, который они причинили и продолжают причинять, как проблему для церкви. Ганс Урс фон Бальтазар был прав в своей Casta Meretrix, говоря, что мы должны смотреть на зло внутри церкви и не игнорировать его, если мы хотим по-настоящему понять, что означает святость церкви, когда мы говорим о ее святости:
Имеют ли слова Ветхого Завета об архиблуднице Иерусалиме какое-либо применение в Новом? Можно ли списать какую-либо теологическую идею о древнем народе Божием, особенно столь важную и центральную, как совершенно излишнюю и не относящуюся к Новому, представляющую только исторический интерес? Убежденный, что таким образом решить вопрос невозможно, Эрих Пшивара разработал свою страстную «Теологию часа», которую назвал «Ветхим и новым заветом». В дальнейшем мы хотим сделать что-то гораздо более скромное. Мы соберем некоторый материал (но далеко не весь!) из богословского Предания, который показывает, насколько сильно великие богословы считали, что эта идея по-прежнему актуальна для Нового Завета. Наше дело чисто историческое. Мы намерены без предубеждений, путем критического рассмотрения и сдержанным языком изложить наиболее важные темы. Затем теологи сделают свои выводы. Они должны делать это спокойно, но не с такой тревогой, чтобы, маневрируя и проводя тонкие различия, они лишали все содержание содержания и обезвреживали его. Не подвергая опасности непорочность, святость и непогрешимость Церкви, надо смотреть в глаза другой реальности и не исключать ее из рассмотрения. Многое было бы достигнуто, если бы христиане все больше и больше узнавали, какой ценой была куплена святость Церкви.[8]
Святость церкви исходит от благодати. Святость церкви - это святость Христа. Эта святость реализуется в эсхатоне, когда церковь очищается от всего зла. Это поверхностное чувство святости заставляет нас думать, что благодать духовенства превращает духовенство в сверхгероев; они не. Многие творят великое зло. Святость церкви сохраняется. Она остается, потому что церковь существует в институциональной церкви, [9] поэтому ее можно найти в институциональной церкви по мере того, как благодать разделяется и принимается ее членами. Но останутся те, кто получил благодать и будут злоупотреблять ею, используя ее для своей личной выгоды вместо того, чтобы правильно с ней взаимодействовать и использовать ее для личного преображения и святости. Когда они обнаруживаются, мы не должны скрывать их от всеобщего обозрения, не давая им получить справедливое осуждение. Когда мы узнаем, что некоторые из них скрываются из стыда или из каких-то худших побуждений, тогда должны быть осуждены и те, кто несет ответственность за сокрытие таких злоупотреблений. Для церкви жизненно важно быть верной себе и своей миссии, чтобы такая несправедливость была выявлена и отвергнута. «Очень важно, чтобы мы, как Церковь, могли с сожалением и стыдом признать и осудить злодеяния, совершенные посвященными, священнослужителями и всеми теми, кому доверена миссия присматривать за наиболее уязвимыми и заботиться о них.[10] Это необходимо сделать. Ибо мы должны быть солью земли, но если соль утратила свою солёность, то есть церковь потеряла связь со святостью, то мы окажемся справедливо осужденными не только обществом, но и правосудием божественного судьи. сам.
[1] Св. Ириней, Против ересей Книга I. пер. Доминик Дж. Унгер и Джон Дж. Диллон (Нью-Йорк: Newman Press, 1992), 90-91.
[2] Св. Исидор Севильский, Этимологии. Транс. Стивен А. Барни, У. Дж. Льюис, Дж. А. Бах и Оливер Бергхоф (Кембридж: издательство Кембриджского университета, 2010), 175.
[3] См. Св. Климент Александрийский, Строматы, книги с первой по третью. Транс. Джон Фергюсон (Вашингтон, округ Колумбия: CUA Press, 1991), 234 [II.118(3)].
[4] См. Св. Климент Александрийский, The Stromata Books One to Three, 272 [III.25(6)].
[5] Св. Петр Дамиан, «Письмо 61» в «Письмах Петра Дамиана» 61-90. Пер. Оуэн Дж. Блюм, OFM (Вашингтон, округ Колумбия: CUA Press, 1992). 13.
[6] Св. Петр Дамиан, «Письмо 61» 5-6.
[7] Св. Петр Дамиан, «Письмо 61», 4.
[8] Ганс Урс фон Бальтазар, «Casta Meretrix» в «Исследованиях в теологии II: Супруга Слова». Транс. Джон Савард (Сан-Франциско: Ignatius Press, 1991), 197-8.
[9] Ср. Люмен Гентиум 8.
[10] Папа Франциск, «Письмо к народу Божьему». Перевод Ватикана (20 августа 2018 г.).