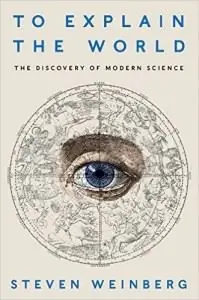Подростком, когда я ходил на мероприятия со своей теологически консервативной молодежной группой, там часто продавались футболки с антинаучными лозунгами вроде: «Я верю в большой взрыв. Бог сказал, и это было бах». Была ориентация на защиту прошлого: представление о том, что все религиозные события, изменяющие парадигму, уже произошли тысячи лет назад, и что наша роль заключалась в защите нашей веры в эти чудесные случаи. против зарождающегося понимания, которое рассматривало эти древние истории как мифы и легенды.
Аргументы раньше приводились только из Священного Писания без ссылки на науку: Бытие 1 говорит, что Бог является создателем неба и земли, вот что произошло. Как гласит наклейка на бампере: «Это сказал Бог. Я верю этому. Это решает». Но теперь мы видим такие нелепости, как Музей Сотворения в Кентукки, который пытается доказать с точки зрения науки, что Библия является буквальной исторической правдой, что приводит к таким экспонатам, как Адам и Ева, едущие на спинах динозавров. Чего многие религиозные фундаменталисты, похоже, не осознают, так это того, что наука изменила поле битвы таким образом, что обе стороны теперь пытаются доказать свою точку зрения - не с помощью библейской интерпретации, а с помощью научного метода.
Этот сдвиг произошел потому, что современная наука настолько впечатляет: трудно отрицать силу научного
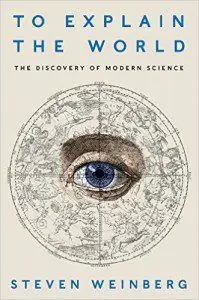
метод, который дал нам смартфоны, Интернет, космические путешествия и многое другое. Но эффективность науки не была очевидна с самого начала. В том же духе этот пост был вдохновлен книгой под названием Объяснить мир: открытие современной науки, написанной лауреатом Нобелевской премии физиком Стивеном Вайнбергом (Harper 2015).
Итак, когда мы обращаемся к истории того, как мы, как вид, стали все больше «прислушиваться к руководству разума и результатам науки», возможно, будет полезно вспомнить шутку из романа Л. П. Хартли., «Прошлое - чужая страна; там все по другому делают» (x).
Так, например, философов-досократиков часто интересно читать, но во многих случаях они используют то, что мы бы назвали логическими ошибками или софистикой: «умные, но необоснованные рассуждения». Вы видите, как они постоянно делают безосновательные заявления (11). Фалес утверждает, что «всеобщей первичной субстанцией» является вода; Анаксимандр, что это воздух. Ксенофан утверждает, что «основной субстанцией» является земля, Гераклит - что это огонь, а Эмпедокл - что все состоит из комбинации этих четырех элементов: земли, ветра, огня и воздуха (4-6). Все эти аргументы интересны с определенной точки зрения, но ни один из них не основан на фактах.
Та же динамика часто действовала в богословии. Чтобы привести только один пример, во втором веке отец ранней церкви Ириней пишет в своей книге «Против ересей», что причина, по которой Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна считаются Священными Писаниями, а не многие другие Евангелия, написанные в то время, состоит в том, что «Евангелий не может быть ни больше, ни меньше, чем они есть. Поскольку есть четыре зоны мира, в которых мы живем, и четыре главных ветра… столпом и основанием Церкви является Евангелие… у нее подобает четыре столпа». Это классическая софистика: несколько убедительная риторика, которая не имеет смысла, если вы сделаете шаг назад от пропаганды, потому что можно, конечно, придумать подобные аналогии для оправдания любого количества Евангелий.
Больше всего в том, что вы не можете построить что-либо существенное на такой ложной предпосылке (254). Вы не можете начать с причудливой основы, что «все состоит из некоторой комбинации земли, ветра, огня и воздуха», и в конце концов узнать, как сделать iPhone. Но научный метод может и дал нам изобретения, которые изменили наш мир как в положительную, так и в отрицательную сторону (254).
Одним из мостов к пониманию силы научного метода - постановки экспериментов для проверки гипотезы против реальности - была музыка. Пифагорейцы замечают, что «если два струны одинаковой толщины, состава и натяжения защипываются одновременно, звук приятный, если длины струн находятся в соотношении небольших целых чисел”:
- Октава: одна струна вдвое короче другой
- Пятый: две трети длины
- Четвертый: три четверти длины
«Наоборот, если длины двух струн не находятся в соотношении небольших целых чисел, то звук будет резким и неприятным» (16). Эти наблюдения и эксперименты помогли связать музыку и математику, а также использовать доказательные рассуждения для предсказания реальности.
В конечном счете, однако, также важно указать, что чистая «математика не является естественной наукой», отраслью науки, которая имеет дело с физическим миром. Скорее, математика - это язык, инструмент, который можно использовать в науке; однако, « Математика сама по себе, без наблюдений, ничего не может нам сказать о мире. [Наоборот], всякая математическая теорема не может быть ни проверена, ни опровергнута наблюдениями мира» (20).
И именно на пристальном наблюдении за миром природы начала развиваться наука. Мы видим, как мыслители среди наших предков постепенно отказывались от необоснованных спекуляций и начинали делать небольшие открытия, основанные на все более изощренных методах наблюдения, измерения и экспериментирования, а также на гарантированной формулировке, проверке и модификации гипотез, основанных на этих экспериментах, которые построили мир. на себя с течением времени (33).
Пять тысяч лет назад древние египтяне использовали звезды, чтобы отслеживать и предсказывать разлив Нила (55). И это миф, что все думали, что мир был плоским до Колумба. Около 2 500 лет назад древние греки приводили обоснованные аргументы в пользу того, почему Земля представляет собой шар, основываясь на наблюдении, что «тень Земли на Луне во время лунного затмения искривлена, а положение звезд на небе кажется, меняется, когда мы путешествуем с севера на юг» (64).
И, когда Колумб готовился к отплытию, дебаты
касалась не формы Земли, а ее размера. Колумб считал, что Земля достаточно мала, чтобы он мог плыть из Испании к восточному побережью Азии, не исчерпав запасов пищи и воды. Он ошибся в размерах Земли, но его спасло неожиданное появление Америки между Европой и Азией» (65).
Но даже со всеми важными открытиями в древнем мире настоящая смена парадигмы - то, что мы сейчас называем научной революцией, - началась в шестнадцатом веке с открытия Коперника о том, что Земля не является центром Вселенной (146). Наша планета - всего лишь третья скала от солнца (148).
Книга Коперника «О вращении небесных сфер» была опубликована в 1543 году, всего через 26 лет после того, как Мартин Лютер прибил свои «95 тезисов» к двери Виттенбергской капеллы в Германии, положив начало протестантской Реформации (153). Но даже когда протестантские реформаторы искали революцию в религии, они в большинстве своем сопротивлялись науке. Относительно Коперника Лютер писал, «Вот что делает тот дурак, который хочет перевернуть всю астрономию с ног на голову…. Я верю в Священное Писание, потому что Иисус Навин приказал Солнцу остановиться, а не Земле». Здесь мы видим, что вышеупомянутый «аргумент из Писания» используется против «аргумента из научного доказательства» (156).
Но задолго до движения новых атеистов ученые тоже впадали в свои колкости. Иоганн Кеплер писал о религиозных сопротивлениях коперниканству в одной из своих книг в абзаце с нескромным названием «Советы для идиотов»:
Но тому, кто слишком глуп, чтобы понять астрономическую науку, или слишком слаб, чтобы верить Копернику, не затрагивая [это] его веры, я бы посоветовал тому, что, отбросив астрономические исследования и проклиная любые философские исследования, которые ему нравятся, он займись своими делами и отправься домой, чтобы покопаться в своем грязном пятне. (170)
К сожалению, назвать оппонента идиотом редко удается «завоевать друзей и повлиять на людей». При этом важно признать, что тот же самый иррациональный страх перед наукой, из-за которого книги Коперника попали в список книг, запрещенных в религиозном отношении, параллелен софистике, которая питает сегодня отрицание изменения климата: «умные, но необоснованные рассуждения.”
Отрицание изменения климата, как и отрицание эволюции, является идолопоклонством: почитанием лжи. Но вот задача научной революции: принять мир таким, какой он есть на самом деле, и реагировать соответствующим образом. Как любил говорить писатель-фантаст Филип К. Дик: «Реальность - это то, что не исчезает, когда в нее перестаешь верить».
Но был долгий процесс доверия науке, который продолжается и сегодня. Когда были открыты антисептические методы мытья рук, которые резко снижали вероятность заражения, большинство врачей изначально отказывались применять антисептические методы при переходе от пациента к пациенту. Точно так же широко использовались такие практики, как пациенты с кровотечением, хотя их эффективность никогда не была доказана, и в конечном итоге было доказано, что они вредят пациентам.
К сожалению, история медицины пронизана необоснованными теориями, такими как юморизм, что «четыре сока - кровь, флегма, черная желчь и желтая желчь, которые (соответственно) делают нас сангвиниками, флегматиками, меланхоликами или холериками». Но теперь мы знаем, что юморизм - это дикая спекуляция, родственная досократовской идее о том, что все состоит из некой комбинации земли, ветра, огня и воздуха. «По иронии судьбы, возможность для врачей изучать теории [такие как Юморизм и Астрология] в университетах давала врачам гораздо более высокий престиж, чем хирургам, которые знали, как делать действительно полезные вещи, такие как вправление сломанных костей, но до современности обычно не обучаются в университетах».
Клинические испытания новых лекарств не требовались вплоть до начала двадцатого века, что привело к появлению большого количества «змеиного масла». Действительно, изучающие историю медицины «часто отмечали, что примерно до начала двадцатого века среднему больному человеку было бы лучше избегать помощи врачей». К счастью, мы живем. век доказательной, научной медицины!
По мере того, как я приближаюсь к своему выводу, я приглашаю вас услышать эти слова из книги Стивена Вайнберга «Объяснить мир»:
Столкнувшись с загадочным миром, люди в каждой культуре искали объяснения…. Фалес пытался понять материю, догадываясь, что она вся состоит из воды, но что он мог сделать с этой идеей? …Но представьте, что должен был чувствовать Птолемей, когда понял, что… он нашел теорию движения планет, что позволило ему с достаточной точностью предсказать, где в небе в любой момент времени будет находиться та или иная планета….
Какое же удовольствие должен был испытывать Коперник, когда он смог объяснить, что точная настройка и зацикливание орбит схемы Птолемея возникли просто потому, что мы рассматриваем Солнечную систему с движущаяся Земля. Все еще несовершенная, теория Коперника не совсем соответствовала данным без уродливых осложнений. Сколько тогда математически одаренный Кеплер, должно быть, наслаждался заменой коперниканского беспорядка движением по эллипсам.… (254-255)
Несмотря на волнение и силу научных открытий, отношение религии к науке часто сводилось к вопросу: «Какое отношение Афины имеют к Иерусалиму?» Напротив, мы призываем выбрать и то, и другое: лучшее из мировых религий, сбалансированное с открытиями современной науки.
С точки зрения нашего двадцать первого века, плюралистической, постмодернистской, мы также знаем, что, несмотря на силу науки, существуют также ограничения того, что может решить научный метод. Как свидетельствуют религиозные традиции, некоторые переживания субъективны, сверхъестественны и редки и не поддаются наблюдаемому, воспроизводимому изучению по требованию в лабораторных условиях. Или, как ученый Дж. С. Холдейн сказал о последствиях квантовой механики: «Вселенная не только более странная, чем мы предполагаем, но и более странная, чем мы можем предположить».
В этом духе я оставлю вас с советом философа Витгенштейна: «Не думай, смотри». Не ограничивай себя, всегда думая в заранее, как вы предполагаете мир. Смотреть. Внимательно наблюдайте. Тест. Эксперимент. Как бы вы… как мы могли бы научиться лучше объяснять мир?
Преподобный доктор Карл Грегг - обученный духовный руководитель, доктор мин. выпускник теологической семинарии Сан-Франциско и священник Унитарной универсалистской конгрегации Фредерика, штат Мэриленд. Подпишитесь на него в Facebook (facebook.com/carlgregg) и Twitter (@carlgregg).