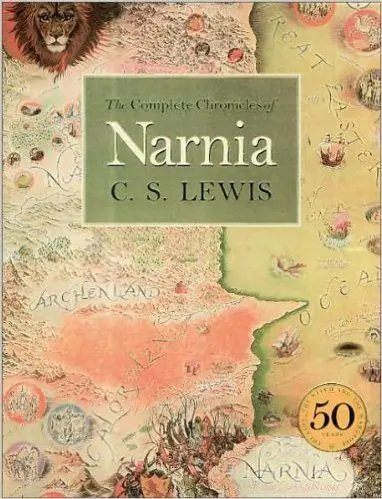В прошлом эпизоде я проповедовал о пороках дидактизма в художественной литературе. Но значит ли это, что мы должны довольствоваться развлечением наших читателей, а их назидание оставить экспертам? Я так не думаю, не только потому, что это лишило бы наши истории значимости, но и потому, что вы не можете по-настоящему уйти от отправки сообщений своим повествованием.
Франшиза «Звездных войн» - это почти культ, некоторые люди серьезно относятся ко всему, что связано с джедаями, и пытаются жить как Скайуокер или Оби-Ван Кеноби. Почему? Во-первых, люди идентифицируют себя с ними, и они находят смысл в своих историях, смысл, который помогает им жить своей собственной жизнью.
В прошлый раз я сказал, что персонажи, о которых мы пишем, должны иметь свободу быть собой, иметь свои собственные цели. Они не должны быть односторонними знаками, которые просто указывают на другие вещи. Им нужно жить. Но это не значит, что они в любом случае не указывают на другие вещи.
Аналогическое повествование
Я не пытаюсь дать здесь техническое определение, просто оно поможет мне провести различие. Вот отличие. Аллегория - это история, которая существует исключительно для того, чтобы донести мысль. Между персонажами и тем, что они представляют, вообще нет места. Однако в повествовании по аналогии между персонажами и их историями, а также значениями, которые они отражают, существует определенное расстояние. Но связь все же есть. Пространство может быть настолько широким, что преодолеть его может только литературный критик. Связь может даже не быть чем-то, что автор осознает, что он делает. Тем не менее, связь есть.
Ключевой момент здесь в том, что должен быть какой-то референт, который существует отдельно от осознания персонажа в истории или даже от сюжета. И читатель может или не может обнаружить это сознательно. Но его влияние все же как-то чувствуется.
То, что следует далее, не должно быть исчерпывающим. Это всего лишь способы, которыми это может сработать по моему опыту.
Автобиографический
Я считаю, что каждое художественное произведение в некотором смысле автобиографично. Чтобы рассказать длинную историю, нужно много работать. Чтобы удержаться, вам нужна навязчивая энергия, которую дает только личный опыт.
Опыт может быть чем-то в вашем детстве, или, может быть, он найден в ваших личных стремлениях. Эти вещи может быть нелегко обнаружить в ваших историях даже людям, которые хорошо вас знают. (У более вдумчивых авторов они могут быть настолько отфильтрованы и видоизменены, что даже сам автор их не заметит.) Но они есть - в мотивах главного героя, в препятствиях, с которыми он сталкивается, в сюжете, который история продвигается вперед - есть некоторая отсылка к автору. И поскольку эти вещи имеют значение для автора, история может иметь смысл и для читателя.
Читатели Библии должны знать, о чем я здесь говорю. Апостол Павел говорит своим читателям, что Священные Писания полны «прообразов».
Царь Давид является прообразом Христа; Иисус сказал, что даже Иона был прообразом. Таким образом, с этой точки зрения Давид и Иона в некотором смысле подобны Иисусу.
Очевидно, что они тоже на него не похожи. Чудо типологии состоит в том, что различия могут быть столь же поучительны, как и сходства. Давид был прелюбодеем и убийцей, а Иона не хотел делать то, что сказал ему Господь. Вот почему они так интересны. Эти люди не просто персонажи аллегории, у них своя жизнь. Они ошибаются, делают глупости. Мы можем любить их или ненавидеть, но при этом видеть, что они указывают на нечто большее, чем они сами.
Насколько я понимаю, есть два способа сделать это. Первый можно увидеть в библейской традиции, где вещи в истории могут относиться либо назад, либо вперед к вещам в более крупной истории. Именно это делает важной историю, будь то история, которая существует исключительно в литературе, или, что гораздо более смело, та история, в которой мы все на самом деле живем, - сама история.
Я думаю, что это привлекает более искушенных протестантских служителей. Это выводит вас за пределы грубых представлений аллегории, удерживая вас от мутных глубин мистицизма.
Но, боюсь, так не пойдет. Библия полна упоминаний о небесных вещах, которые по своей природе уводят вас за пределы истории. Только один пример: Послание к Евреям, глава 9. Здесь мы видим, что храм в Иерусалиме был миниатюрной копией того, что действительно вечно существует на небесах.
Другой подход, который погружается в мистицизм, но отказывается сделать решительный шаг, - это глубинная психология. Я думаю, это то, что у вас есть с Джозефом Кэмпбеллом и его анализом мифологии, особенно с его проницательным путешествием героя. Согласно Кэмпбеллу, когда мы рассказываем истории, действует нечто бессознательное и универсальное. Вот почему определенные темы и образы продолжают появляться снова и снова, куда бы вы ни посмотрели. (Думаю, то же самое мы видим и в «Девяти основных сюжетах» Кристофера Букера). Это сверхъестественно, я попал прямо в структуру путешествия героя в своем собственном сочинении, не задумываясь об этом. Но разве это всего лишь психология и ничего больше?
Опять же, похоже, это не так. Глубинная психология не идет достаточно глубоко. Почему все должно работать именно так? Являются ли все референты просто внутренними, как это, кажется, предполагает? Или структура, которую мы находим в себе, в некотором смысле является отражением более крупной структуры, которая наделяет нас смыслом? И если это так, где находится эта большая структура?
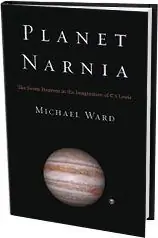
Говорите «метафизика», и люди почему-то чувствуют, что вы сошли с ума. Это для грибников и монахов. Вы никогда не узнаете, что большинство христиан верили в метафизику более тысячи лет или что инклинги тоже верили.
В основном метафизический подход предполагает осмысленный мир, смыслами здесь являются вещи, существующие вне нас и даже вне нашего сознания. Мы извлекаем смысл из этих больших смыслов, участвуя в них. И способ, которым это делается в художественной литературе, по крайней мере, если вы хотите, чтобы это произошло намеренно, заключается в использовании вещей способами, которые согласуются с их внутренними значениями.
Читателю не нужно знать, что вы делаете, чтобы извлечь из этого пользу. Я думаю, что лучший современный пример этого - «Хроники Нарнии».
Долгое время люди думали, что К. С. Льюис написал прямую аллегорию с добавлением каких-то странных несоответствий. Это сработало для него, потому что, в конце концов, он был преподавателем Оксфорда и отличным стилистом. И хотя здесь присутствует некоторая аллегория, она немного расплывчата.
Но оказывается, ко всеобщему изумлению, что аллегория могла быть придумана Льюисом, чтобы мы не видели, что он на самом деле задумал. Похоже, что он даже держал своего хорошего друга Толкина в неведении по этому поводу. (Возможно, он знал, что Толлерс будет еще более неодобрительным, чем он сам!)
Я думаю, что «Планета Нарния» Майкла Уорда убедительно показала нам, что Льюис писал каждую Хронику, имея в виду планету из средневековой космологии. Он хотел, чтобы тон каждой планеты не только формировал истории, но и формировал восприятие его читателей, когда они читали истории. Каждая из 7 историй наполнена символами, традиционно связанными с каждой из 7 планет. И должен признаться - это работает. Во всяком случае, для меня это важно.
Теперь еще одно признание: я склонен к подобным вещам в своем письме. Я не имею в виду что-то конкретное о планете, просто метафизику в целом. Но я не обращаю на это внимания, я просто делаю это.
Это не единственное, что помогает мне писать. Но это очень важно для меня. Но есть что-то еще, что-то, что определяет даже это. И это то, к чему я вернусь в следующий раз.