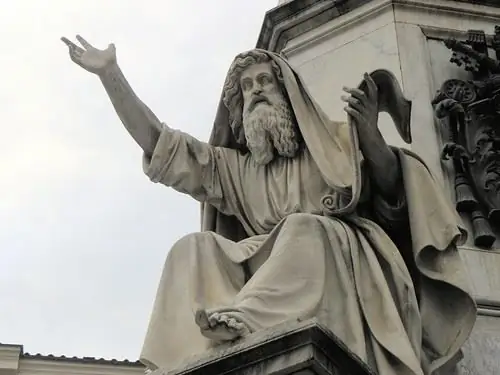Да. Конечно, историчность имеет значение. Мой собственный подход к Священному Писанию основан на историко-критическом методе. Эта методология уделяет значительное внимание вопросу историчности. Историческая критика относится к процессу установления первоначального контекстуального значения библейских источников и оценки их исторической достоверности.
Историческая критика - это термин, который мы используем для описания основного научного подхода к Библии. Однако важно отметить, что слово «критический» в этой фразе не имеет уничижительного оттенка. Это не означает, что мы нападаем на религиозные произведения или унижаем их, мы «критикуем» их. Критика относится к аналитическому упражнению по оценке информации, полученной с помощью наблюдения и разума.
Этот подход использует критическое мышление, чтобы выявить способ, которым первоначальный автор и предполагаемая аудитория поняли бы сообщение этого автора. Поэтому ученые, которые придерживаются этой линии толкования, избегают чтения Библии (или других библейских текстов) через призму современного богословия. Но это не означает, что историческая критика антирелигиозна. Для тех из нас, кто серьезно относится к Священным Писаниям, после критического прочтения исторического чтения мы можем вынести обоснованные суждения о значении (или его отсутствии) того или иного текста Священных Писаний в нашей жизни.
Тем не менее, несмотря на то, что я предпочитаю именно этот метод анализа Священных Писаний, я признаю, что историко-критический подход - не единственный правильный способ чтения священных текстов. Несмотря на мою преданность исторической критике, это скорее современная интерпретационная техника, чем древняя. На протяжении большей части истории человечества (включая библейскую эпоху) читатели часто проявляли невероятную творческую свободу при интерпретации библейского материала. С этой точки зрения исходное авторское послание было не так важно, как тот факт, что оно вызвало новое религиозное вдохновение.
Для этих читателей не «история» имела значение. Религиозный материал служил руководством для интерпретации текущей ситуации или убеждений. Писание использовалось творчески, чтобы связать прошлое с настоящим. Этот процесс происходит как в еврейской Библии, так и в христианском Новом Завете.
Приведу иллюстрацию: оба автора Матфея и Луки представляют повествования о рождении Иисуса от матери-девственницы. Согласно этим авторам, Иисус не был сыном плотника Иосифа; Иисус был сыном Бога. Автор Матфея связывает историю непорочного зачатия с пророчеством из книги Исайи:
“Все это произошло во исполнение реченного Господом через пророка: «Се, Дева зачнет и родит Сына, и назовут Его Эммануил», что значит: «Бог с нам'” (1:22-23).
Это прекрасное теологическое утверждение. Исторически, однако, первоначальный отрывок из Исайи не имел ничего общего с рождением Иисуса. Настоящий еврейский текст адресован иудейскому царю Ахазу и говорит ему:
«Смотрите, молодая женщина беременна и вот-вот родит сына. Пусть она назовет его Иммануилом. К тому времени, когда он научится отвергать зло и выбирать добро, люди будут питаться творогом и медом» (Исаия 7:13-14).
Несмотря на то, что этот стих цитируется в книге Матфея, все современные ученые согласны с тем, что еврейское слово 'almah в отрывке Исайи означает молодую женщину брачного возраста, а не «деву» (образ «девственницы» происходит от более поздней греческой Септавгинты). С точки зрения контекста ребенок, который родится у этой женщины, послужит знамением для Ахаза. Ясно, что чудесное рождение Иисуса семьсот лет спустя не достигло этой цели.
Младенец означает, что Яхве был с царством Иудеи в этот конкретный момент национального кризиса. Этот ребенок вырастет мужчиной, но прежде чем он достигнет возраста ответственности, т. е. «научится отвергать зло и выбирать добро», цари, угрожавшие Ахазу, падут. Таким образом, весь смысл пророчества заключался в том, что у Ахаза не было причин заключать политический союз с этими людьми. Таково первоначальное значение пророчества Исаии.
Сегодня большинство библеистов считают, что ребенок, о котором говорил Исаия, был царем Езекией, взошедшим на иудейский престол в 715 г. до н. э. Вместо пророчества о будущем Мессии Исаия изрек иудейскому царю очень конкретное пророчество, которое имело прямое отношение к политическим событиям во времена Исаии.
Для Исаии Езекия был избранным ребенком - царем, который должен был стать праведным лидером, знамением того, что «Бог был с» царством Иудеи. Спустя годы Езекия с помощью Исаии провел серию значительных религиозных реформ. Рождение этого иудейского царя было знаком, который Бог дал Ахазу, чтобы он серьезно отнесся к совету Исаии.
Вместо того, чтобы дать историческое прочтение этого отрывка, автор Евангелия от Матфея использовал Исайю 7:13-14 как творческий трамплин для понимания Иисуса. Правда, с исторической точки зрения автор технически «неверно интерпретирует» отрывок, но тем самым предлагает глубокую богословскую интерпретацию. Это переосмысление делает отрывок актуальным для нынешних религиозных взглядов автора.
В еврейской Библии авторы использовали Священное Писание аналогичным образом. Мы видим, что этот же процесс происходит в самой книге Исайи. Ученые обычно делят книгу Исайи на три исторические части: Первая Исайя написана в основном в восьмом веке до н. э. (примерно первые тридцать девять глав), Второзаконие Исаии, написанное в середине шестого века до н. э. (главы 40-55) и Третьей Исаии, написанной в конце шестого или начале пятого века до н. э. (главы 56-66). Более поздние составители корпуса Исаии намеренно адаптируют слова и темы, которые появляются в Первом Исаии, тем самым демонстрируя такой же подход к Священным Писаниям, как и автор Матфея. Таким образом, подобно Евангелию от Матфея, книга Исаии перенимает и реконфигурирует более ранние религиозные тексты, часто вырывая эти источники из исторического контекста. Метод толкования, который использовал автор Евангелия от Матфея, был просто частью давней почтенной традиции, засвидетельствованной в самой книге Исаии.
Как и авторы Нового Завета, еврейские богословы продолжили эту библейскую традицию, создав более поздние библейские тексты, которые адаптировали и дополняли ранее существовавшие «библейские» источники. Например, сообщество свитков Мертвого моря в Кумране создало тип библейского комментария, известный как Пешарим, который интерпретировал более ранние материалы в свете истории сообщества. Их Пешарим показывает, что евреи, жившие во времена Иисуса, не были заинтересованы в определении буквального, исторического значения Священного Писания. Вместо этого они были больше заинтересованы в творческом переосмыслении, объясняющем современные религиозные взгляды. Развиваясь в той же религиозной среде, раннехристианские авторы перенимали и реконтекстуализировали библейский материал как мессианские пророчества, указывающие на Иисуса.
Мы можем провести еще одну параллель с этим процессом через труды еврейского историка I века Иосифа Флавия. В своих двадцати томах истории под названием «Иудейские древности» Иосиф Флавий создал своего рода новую переписанную Библию, дословно цитируя отрывки из Септуагинты, а затем добавляя как новый материал, так и свои собственные комментарии непосредственно к отчету. Из того же периода мы находим эллинизированного еврея Филона Александрийского, который сочетал еврейские тексты с философией Платона, создавая таким образом новый религиозный материал, основанный на Библии..
Таким образом, этот метод использования Священных Писаний подобен работе Джозефа Смита по созданию новых расширенных литературных произведений, основанных на библейских текстах, таких как Книга Моисея и Книга Авраама. Являясь богословским расширением библейского материала, библейские труды Джозефа Смита соответствуют древнему литературному образцу текстов откровений. Этот же тип жанра встречается в более поздних еврейских псевдоэпиграхах и раввинистических мидрашах, а также в самой Библии.
Термин «мидраш» относится к методу толкования библейского материала, который заполняет литературные и юридические пробелы в библейских источниках. Работа Джозефа Смита хорошо согласуется с тем, как библейские авторы использовали библейские источники в качестве трамплина для создания новой религиозной литературы, независимо от первоначального авторского замысла и исторической обстановки. Таким образом, для Святых последних дней такой текст, как Книга Авраама, может быть определен как вдохновенный пророческий мидраш.
Имеет ли значение историчность? Конечно. Но, видимо, не для создания писания.