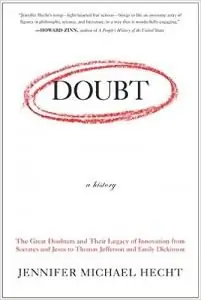Одним известным определением веры из христианской традиции является Евреям 11:1, «вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом». Этимологически, корень слова вера связан с доверием. Вера верит, что что-то есть (или будет) так, даже если нет поддающихся проверке доказательств. Во многих случаях доказательства основанных на вере утверждений являются внутренними, субъективными и непредсказуемыми - в отличие от внешних, объективных и легко воспроизводимых в лабораторных условиях, что не обязательно делает эти утверждения менее «истинными», но делает часто затрудняют (если не делают невозможным) их доказательство или опровержение с использованием научного метода.
Загвоздка, однако, с нашей точки зрения двадцать первого века заключается в том, что мы находимся почти в 500 годах от начала научной революции. В 1543 году вышла книга Николая Коперника «О революциях Небесные сферы разрушили птолемеевское представление о вселенной как о трехуровневой структуре, в которой небо буквально вверху, ад буквально внизу, а Земля неподвижна посередине, а мы, люди, находимся в центре «жизни, вселенной и всего остального». ». Коперниканская революция, показавшая, что Солнце, а не Земля, находится в центре нашей Солнечной системы, децентрировала наше место (или его отсутствие) в великой схеме вещей, децентрирование, которое становится все более очевидным с изменением парадигмы. открытия Дарвина, Фрейда, Эйнштейна, Хаббла и многих других.
Ранее я уже писал о том, как самопровозглашенный «эволюционный евангелист» Майкл Дауд сравнил «веру в плоскую Землю» с «эволюционной верой». Для Дауда проблема с «верой в плоскую Землю» заключается в том, что это до н.э. - не «До Христа», а «До Коперника».
В то же время это не означает, что мы должны выбросить все, что B. C. («До Коперника»). Остается много убедительных причин воспринимать древние теологии всерьез, метафорически и архетипически, но мы можем опасно ошибиться, когда метафоры о плоской Земле воспринимаются буквально. Действительно, теолог двадцатого века Доротея Зёлле (1929 - 2003) «указал, что вера, без сомнения, не сильнее, она просто более идеологизирована» (Пол Расор, «Вера без уверенности», xxi). И ежедневно в новостях появляются примеры идеологических лидеров, которые отказываются менять свое мнение, несмотря на кучу доказательств, противоречащих их позициям. В этом духе Анн Ламотт писала: «Противоположность веры - не сомнение: это уверенность. Это безумие. Вы можете сказать, что создали Бога по своему образу и подобию, когда оказывается, что он или она ненавидит всех тех же людей, что и вы».
Стивен Кольбер называет это явление правдивостью: ложные «тезисы для обсуждения», повторяемые снова и снова, пока многие люди не будут манипулированы, чтобы заставить поверить в дезинформацию. Эта тактика не нова: древняя афинская демократия дает нам слово демагогия для политиков, которые «апеллируют к эмоциям, страхам, предубеждениям и невежеству… для получения власти и продвижения политических мотивов».
Чтобы связать идеологию, демагогию и правдивость с нашей приверженностью быть эволюционной религией, которая включает в себя все, чему мы научились со времен научной революции, было сказано, что либеральный поворот в религии является попыткой создать осмысленные живет и строит любимые сообщества в мире, который разнообразен и в котором выпал традиционный центр. Обратите внимание, что слово «либерал» происходит от латинского корня liber, означающего «свободный», поэтому либеральный поворот в религии - это движение к свободе в религии. Это переход от авторитета, основанного на сообществе, иерархии и традициях, к авторитету, основанному на разуме (логическом) и опыте (то, что человек знает из первых рук или может быть доказан с помощью научного метода).
Двигаясь к растущей грани сомнений сегодня, появляется новая область «Исследований невежества», называемая агнотологией (связанная со словом «агностик»), которая не только о том, «Что мы не делаем знаем, а почему мы этого не знаем?» в целом, но и конкретно о том, «что поддерживает невежество или позволяет использовать его в качестве политического инструмента?» также вещи, которые люди не хотят, чтобы вы знали». Возможно, самым опасным примером сегодня является отрицание изменения климата; тем не менее, другой пример из недавней истории - это то, как табачная промышленность подделала связь между употреблением сигарет и раком.
Как показано в недавней статье в The New York Times на тему «Обоснование обучения невежеству»,, признание того, что мы не знать: «неопределенность может способствовать скрытому любопытству, в то время как подчеркивание ясности может привести к искаженному пониманию знаний». Возьмем пример из области медицины: учебник по неврологии объемом 1414 страниц может ввести студента в заблуждение, заставив его думать, что мы знаем о мозге больше, чем на самом деле. Даже если мы знаем сотни страниц фактов о мозге, это крошечная часть всего, что нам нужно знать о мозге. Более того, резюмируя точку зрения, изложенную в исторической книге Томаса Куна «Структура научных революций», «Чем больше мы знаем, тем больше мы можем спросить. Вопросы не уступают место ответам настолько, насколько они множатся вместе». Как учил поэт Рильке, «Живите вопросами».
Напротив, история западной цивилизации во многих отношениях была склонна к вере и убеждениям в отношении
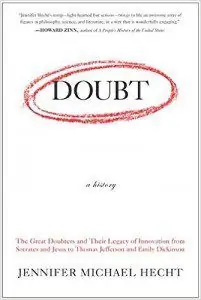
скептицизм и сомнение. В качестве противовеса историк Дженнифер Майкл Хект написала прекрасную книгу под названием Сомнение: история, в которой она прослеживает историю великих сомневающихся на протяжении веков и по всему миру.
Для примера ее точки зрения см. ее «Викторина по шкале сомнений». В мире, где вера и убеждения часто являются нормой, может быть неприятно видеть рамки перевернуты в пользу сомнений. Но цель Хехта - предложить нам сделать шаг назад и задуматься о том, во что мы верим (или не верим) и почему.
Что касается ее мотивации для написания всемирной истории сомнений, Хехт пишет: «Единственное, что… действительно нужно сомневающимся, что есть у верующих, - это ощущение, что такие люди, как они, всегда были рядом, что они часть великой истории…» (494). И в своих исследованиях она обнаружила, что на протяжении всей истории существовали «святые сомнения, мученики атеизма и мудрецы счастливого неверия» (ix), которые относятся к периоду скептицизма. многих философов-досократов (4), а также самого афинского овода Сократа, который учил, что мудрость часто заключается не в том, сколько вы знаете (или думаете, что знаете), а в том, насколько вы осведомлены о том, чего вы не знаете (11).).
Есть также сильные сомнения и скептицизм в иудейской и христианской традициях, двумя ранними примерами которых являются книги Иова и Екклесиаста (85). Но, возможно, наиболее полезной частью глобального обзора сомнений является напоминание о том, что в отличие от истории западной цивилизации, на Востоке «существование Бога редко было центральным вопросом» (86). И есть выдающиеся восточные традиции, в которых почитается сомнение. В частности, традиция дзен-буддизма учит: «Великое сомнение: великое пробуждение. Маленькое сомнение: небольшое пробуждение. Без сомнения: никакого пробуждения» (214).
Относительно «Великого раскола» между теми верующими и сомневающимися, которые оказались на противоположных концах «Шкалы сомнения», Дженнифер Майкл Хехт пишет:
Великими сомневающимися, как и великими верующими, были люди, занятые этой проблемой, пытающиеся выяснить есть ли во Вселенной действительно скрытая версия человечности, или же человечность является ошибкой, и люди будут лучше отучить себя от своего чувства повествования, справедливости и любви, тем самым разрешив раскол, став более похожими на вселенную, в которой они застряли. (xii)
Я не буду пытаться разрешить этот раскол, но где бы вы ни оказались на стыке веры и сомнения, я хотел бы оставить вас с двумя цитатами.
Первый принадлежит философу Питеру Роллинзу, самопровозглашенному практику пиротеологии, «зажигательной вере, которая мужественно принимает сломленность, решительно смотрит в лицо незнанию и радостно принимает трудности существования». Что касается того, что Хехт называет «Великой расколом», Роллинз пишет следующее:
Человек, способный освободиться от представления о том, что в его жизни есть какая-то конечная цель, освобождается от негативной меланхолии, которая возникает из-за невозможности найти эту цель (или от наивного оптимизма, который возникает из-за мысли, что они будут). Секрет… в том, что никакого секрета нет. Вместо этого задача состоит в том, чтобы открыть и углубить любовь. Ибо любовь не только утверждает мир, но и производит излишек в этом радостном утверждении: действия, приводящие к освобождению.
Точно так же относительно того, как духовность сомнения может по иронии судьбы порождать мироутверждающую любовь (к тому, что, как мы знаем, мы можем сделать здесь и сейчас) и освобождающие действия (к людям и местам, которым, как мы знаем, мы можем помочь, как только мы свободен от ложных предположений), я рекомендую стихотворение Иегуды Амихая (1924-2000) «Оттуда, где мы правы» о том, как сомнение (включая неуверенность в себе) может открыть нам новые возможности.
Преподобный доктор Карл Грегг - обученный духовный руководитель, доктор мин. выпускник теологической семинарии Сан-Франциско и священник Унитарной универсалистской конгрегации Фредерика, штат Мэриленд. Подпишитесь на него в Facebook (facebook.com/carlgregg) и Twitter (@carlgregg).