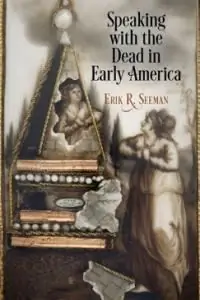Сегодня The Anxious Bench приветствует Эрика Р. Симана, профессора истории Университета Буффало. Публикации Симана охватывают многие века, культуры и темы, но в нескольких его книгах анализируются верования и ритуалы, связанные со смертью и умиранием. Одна из моих любимых книг в области ранней американской истории - «Смерть Симана в Новом Свете», в которой сравниваются пути смерти коренных, африканских и английских культур. Ниже мы с Симаном обсуждаем его последнюю книгу «Разговор с мертвыми в ранней Америке» (University of Pennsylvania Press, 2019)
Э. С.: Некоторые ученые принимают заявления служителей Реформации и теологов слишком за чистую монету. В своих жарких дебатах с католиками протестантские богословы сформулировали твердые позиции в пользу «отсутствия», то есть отсутствия отношений между людьми и священными фигурами, кроме Бога. В частности, реформаторы отвергли католическую веру в чистилище, которая позволяла средневековым католикам поддерживать отношения с мертвыми через свои молитвы.
Отказ реформаторов от чистилища побудил некоторых ученых настаивать на том, что протестантизм был религией «отсутствия». Как пишет один недавний историк Реформации, «протестантизм лишил религию посредничества и близости с мертвыми».
Возможно, это и имелось в виду служителями и богословами - Лютер и другие опасались, что внимание к мертвым отвлечет людей от славы Божьей, - но это определенно не было опытом большинства протестантов в столетия после Реформации.
Справедливости ради скажу, что я далеко не первый ученый, рассматривающий протестантизм как религию «присутствия», хотя я один из первых, кто сформулировал это таким образом. Многие историки писали о живом сверхнатурализме протестантов в Европе и Северной Америке раннего Нового времени. Я думаю о великой работе Роберта Скрибнера о Германии, новаторских «Мирах чудес» Дэвида Холла, Александре Уолшем о провиденциализме, Дуге Винярски о роли Святого Духа в Великом пробуждении и так далее..

ДТ: В семнадцатом веке большинство жителей Новой Англии, по крайней мере формально, считали, что они не могут знать, были ли их умершие близкие спасены или прокляты. Это включало детей. Однако я заметил, что к концу семнадцатого века ортодоксальные священники-конгрегационалисты заверяют, что умершие младенцы и маленькие дети попадут в Божье присутствие на небесах. Неужели люди просто не могут принять мысль о детях как объектах Божьего гнева?
ES: Эта тема интересовала меня с момента моей первой книги «Благочестивые убеждения» (1999). Здесь я впервые осознал важность соблюдения разрыва между рецептом и практикой. Пуританский кальвинизм должен был означать, что даже умершие маленькие дети могли попасть в ад, как и взрослые.
Когда служители писали или проповедовали на эту тему, они могли быть беспощадными в своей кальвинистской логике. «Ваши дети, - заявил Коттон Мэзер, - рождены детьми гнева. Именно через вас перешел к ним грех, который подвергает их бесконечному гневу». Другими словами: души ваших умерших детей могут быть в аду.
Но в своих пастырских обязанностях, когда служители посещали умирающих и скорбящих, они часто произносили более мягкую линию и подчеркивали искупительную благодать Христа. И когда миряне и женщины писали в своих дневниках о своих умерших детях (и, кстати, об умерших супругах и родителях), они почти никогда не беспокоились о том, что души их близких находятся в аду.
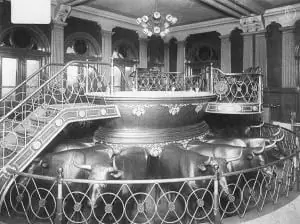
ДТ: Многие историки поражены появлением прочных отношений между живыми и мертвыми в девятнадцатом веке. Мормоны быстро привыкают к крещению за умерших. А потом бесчисленное количество американцев участвуют в спиритических сеансах. Вы утверждаете, что такая практика основана на «культе мертвых», уже существовавшем в Соединенных Штатах начала девятнадцатого века. Что вы подразумеваете под «культом мертвых»?
ES: Это, я считаю, самый важный вывод книги. Предыдущие ученые видели предшественников сеансового спиритуализма в нескольких относительно маргинальных движениях: сведенборгианстве, шейкеризме и месмеризме. Напротив, я вижу, что спиритуализм строится на гораздо более широком культе мертвых.
Используя определение «культа» как «формы или системы религиозного культа или почитания», направленной на «определенную фигуру или объект», я показываю, что многие довоенные протестанты почитали своих умерших близких. Участники культа мертвых придерживались пяти постулатов: 1) трупы заслуживали поклонения, 2) души умерших превращались в ангелов, 3) души могли возвращаться на землю в качестве ангелов-хранителей, 4) могильники с особой вероятностью удерживали возвращенных духов, и 5) молитва мертвым была законной формой религиозного общения.
Эти верования были гораздо более распространены, чем три относительно маргинальных движения, о которых я упоминал выше. Я находил свидетельства таких верований во всем: от дневников и писем до надгробных гимнов, салонных песен, надгробных эпитафий и сентиментальной поэзии. Частое выражение этих идей помогает объяснить быстрый рост сеансового спиритуализма. Когда в 1848 году сестры Фокс заявили, что могут общаться с мертвыми, они обнаружили, что большая аудитория готова принять их заявление.
ДТ: В шекспировском «Гамлете» говорится о «неизведанной стране, из которой родился / Ни один путешественник не возвращается». Конечно, вскоре Гамлет обнаружил, что это не так, как и американцы на протяжении столетий. Что изменилось, так это то, как американцы поняли настойчивость мертвых и то, как мертвые взаимодействуют или не взаимодействуют с живыми. Если вы не возражаете очень быстро привести историю в соответствие с настоящим, как все изменилось с середины девятнадцатого века?
ES: Пик спиритуализма пришелся на десятилетия после Гражданской войны. Когда сотни тысяч молодых людей были убиты в расцвете сил, скорбящие семьи часто обращались к медиумам, чтобы узнать, как умер их сын или муж и счастлив ли он на небесах.
Двадцатый век, однако, не был так благосклонен к идее поддержания отношений с мертвыми. Различие Фрейда между здоровым и нездоровым горем стало доминировать как в медицинских, так и в популярных представлениях о трауре. Здоровый траур предполагает отделение себя от умершего; патологическая «меланхолия» возникла из-за неспособности оторваться от мертвого. По сути, людей призывали «преодолеть это».
Но в последние годы мы наблюдаем возрождение интереса к поддержанию связи с мертвыми. Терапевты больше не призывают к отстранению; иногда скорбящие пишут письма покойному. Люди используют социальные сети, чтобы отправлять сообщения умершим, например: «Я знаю, что ты присматриваешь за мной на небесах». Даже спиритуализм находит новую аудиторию. В 2012 году шоу Long Island Medium было самым рейтинговым на кабельном телевидении. Он по-прежнему набирает силу после 14 сезонов и 180 серий.
ДТ: Последний абзац «Разговора с мертвыми» очень интимный и захватывающий: «Я не верю в призраков. Я не верю в медиумы. Я даже не верю в Бога. Поэтому после смерти моего дедушки я был особенно благодарен за ту [сохраненную] голосовую почту, которую он оставил. Я не думал, что встречу «Призрака» на небесах, поэтому был рад испытать силу общения с мертвыми». Это восходит к анекдоту о семейных похоронах, с которого вы начинаете книгу. Почему вы решили начать и закончить книгу собственным опытом?
ES: Ответ прост: я написал вступление и заключение вскоре после посещения похорон моего дедушки, и это было у меня на уме.
Более длинный ответ заключается в том, что я искал что-то, чем можно было бы привлечь читателей. Книга охватывает 300 лет и касается некоторых сложных богословских идей, но я хотел, чтобы повествование было достаточно доступным, чтобы любой студент или неакадемический мог это понять. Не только потому, что они могли это понять, но и потому, что хотели бы прочитать 270 страниц. Если бы я начал с историографических дебатов, это дало бы этим читателям сигнал: на самом деле вы здесь не нужны.
И есть неявный аргумент, который вытекает из похорон моего деда - аргумент, который я не был достаточно смелым, чтобы прямо изложить в книге: скорбящие повсеместно скучают по любимым усопшим и хотят поддерживать с ними связь.
Двадцать пять лет исследований смерти на протяжении четырех столетий и многочисленных обществ убедили меня в этом. Я понимаю, что историки с подозрением относятся к универсалиям. Я с подозрением отношусь к универсалиям! И, конечно же, я бы уточнил эту универсальность, говоря о том, как горе и желание общения по-разному выражаются в разное время и в разных местах. Абсолютно. Но я использовал похороны своего деда, чтобы предположить, что и атеист сегодня, и шейкер двести лет назад, и пуританин четыреста лет назад - все они имеют нечто глубоко человеческое: желание поддерживать связь с мертвыми.