Несколько недель назад я написал в блоге об искусственном интеллекте в ближайшем будущем в посте под названием «Иммигранты не придут на вашу работу, придут роботы». На следующей неделе я буду писать на тему «Мальтус, День Земли и мировое население», чтобы разобраться с последствиями того, что число людей на планете Земля увеличилось в семь раз (увеличилось в семь раз) всего за два столетия., примерно с 1 миллиарда человек, живших в 1800 году, до более чем 7,6 миллиарда человек сегодня. Сегодня моя тема - «Права человека».
Я планировал эти три поста - в дополнение к готовящемуся в начале июня об «Утопизме» - как серию о «построении мира, о котором мы мечтаем». В моей традиции унитарного универсализма наш 6-й принцип призывает нас работать над «целью мирового сообщества с миром, свободой и справедливостью для всех». Это прекрасное видение того, что иногда называют «либеральным интернационализмом», и оно резко контрастирует с реакционным нативизмом, который скандирует «Постройте эту стену!»
Но, прекрасное видение или нет, я не хочу, чтобы мы были наивными в отношении того, что значит преследовать эту высокую цель «мирового сообщества с миром, свободой и справедливостью» - не только для некоторых, но для всех - в мире, пораженном «ростом роботов», ростом населения и ростом приливов и температур в результате глобального изменения климата:
- Появление роботов заставляет нас задаться вопросом: «Если мы, люди, стоим только той ценности, которую наш труд может дать корпорациям, то не останется ли большинство из нас, когда нас вытеснят роботы?»
- Рост численности населения заставляет нас задаться вопросом, означает ли увеличение числа людей, что существует растущее давление, связанное с предоставлением ресурсов, которые позволят каждому человеку вести достойную жизнь.
- Повышение приливов и отливов означает, что глобальное изменение климата усложнит все это и, возможно, достигнет критической точки гораздо раньше.
Чтобы преследовать мировое сообщество в такое время, мне вспоминается ответ на движение Соединенных Штатов к либеральному интернационализму: вместо «Сделаем Америку снова великой» либеральный интернационализм мог бы сказать, «Сделаем Америку (Великобританию) снова великой».
Есть по крайней мере два основных красных флажка с этой перспективой. Первый красный флаг - из прошлого: хотя у «Сделать Америку снова Великобританией» могут быть некоторые преимущества, такие как всеобщее здравоохранение и, возможно, признание того, что парламентская система не так уж и плоха, история также напоминает нам, что Призрак британского колониализма не всегда шел так «великолепно» с первого раза.
Второй красный флаг из настоящего - это ирония интернационалистского лозунга «Сделаем Америку (Британию) снова великой» в эпоху «Брекзита»; всего за несколько месяцев до того, как Дональд Трамп должен был оседлать волну нативистского негодования и стать 45-м президентом Соединенных Штатов, граждане Соединенного Королевства проголосовали с небольшим перевесом в 1.9% выйдут из Европейского союза в начале 2019 года, что станет серьезным переходом от интернационализма к изоляционизму.
Как проследил индийский эссеист Панкадж Мишра в своей книге «Эпоха гнева», и Брексит, и избрание президента Трампа являются признаками того, как демагоги могут использовать развивающиеся технологии для манипулирования все более циничным, скучающим и недовольным населением. В нашем все более глобализированном мире мы неправильно понимаем эти события, если рассматриваем их как изолированные отклонения. Вместо этого нам нужно рассмотреть то, как избрание Трампа и Брексит отражают тенденции, подобные избранию индуистского националиста Нарендры Моди премьер-министром Индии, избранию авторитарного Реджепа Эрдогана президентом Турции и победе крайне правого политика Марин Ле Пен. 33% голосов во Франции. Мишра пишет, что нам нужно быть честными в сложившейся ситуации:
Китай, хотя и становится все более благоприятным для рынка, кажется, дальше от демократии западного образца, чем раньше, и ближе к экспансионистскому национализму. Эксперимент со свободным рыночным капитализмом в России породил клептократический режим [при Владимире Путине]. Он привел к власти откровенно антисемитские режимы в Польше и Венгрии… Авторитарные лидеры, антидемократическая негативная реакция и правый экстремизм определяют политику Австрии, Франции и США, а также Индии, Израиля, Таиланда, Филиппин и Турции. (8-9)
Все сказанное - и как бы важно ни было наше настоящее - я не хочу необоснованно экстраполировать вероятное будущее нашей цивилизации только на основе текущих негативных мировых тенденций. Многие факторы влияют на культурные изменения с течением времени. Рассмотрим еще несколько относительно недавних исторических моментов. Немногим более ста лет назад, в конце девятнадцатого века, многие ведущие интеллектуалы весьма оптимистично относились к надеждам на быстрое достижение своих утопических устремлений - те же самые мечты, которые многие из нас разделяют о «мировом сообществе», в котором «достаточно на всеобщую нужду, но не на всеобщую жадность. Многие из моих собственных унитарных предшественников девятнадцатого века размышляли о «прогрессе человечества вперед и вверх во веки веков». Но суровая правда состоит в том, что их утопические социальные надежды на неуклонный, неизбежный прогресс потерпели крах в двадцатом веке, начиная с ужасов первой мировой войны и заканчивая Второй мировой войной, Холокостом, вьетнамской войной, геноцидом в Руанде, Теракты 11 сентября, Ирак, Афганистан, Сирия и др. (21).
Я не хочу излишне угнетать. Я знаю, что некоторые из вас знакомы с такими писателями, как Стивен Пинкер, которые напоминают нам о многих причинах для надежды и о многих способах улучшения положения многих людей в целом. И я расскажу об этом в своем июньском посте «Утопизм тогда и сейчас». Но сейчас я призываю нас обратить внимание на многочисленные, часто обманчивые, колебания трендов с течением времени.
Например, мне было одиннадцать лет в 1989 году, когда пала Берлинская стена. В то время подъем авторитаризма сегодня - почти три десятилетия спустя - было трудно предсказать. В начале 1990-х
С крахом советского коммунизма всеобщий триумф либерального капитализма и демократии казался обеспеченным…. Слова «глобализация» и «интернет» вселили… больше надежды, чем беспокойства, когда вошли в обиход. Американские советники поспешили в Москву, чтобы способствовать превращению России в либеральную демократию; Китай и Индия начали открывать свою экономику для торговли и инвестиций; …появился расширенный Европейский Союз; в Северной Ирландии был объявлен мир; Нельсон Мандела завершил свой долгий путь к свободе; Далай-лама появился в рекламе Apple «Думай иначе»; и казалось лишь вопросом времени, когда Тибет тоже станет свободным. (6-7)
Более важно то, что ни одна из этих различных тенденций - ни движение к более открытому обществу тогда, ни движение к авторитаризму сейчас - не является неизбежным, окончательным, «концом истории». Прогресс и свобода не неизбежна, равно как и фашизм и глобальная война (38). В наших силах построить мир, о котором мы мечтаем, превратить наши «мечты в дела».
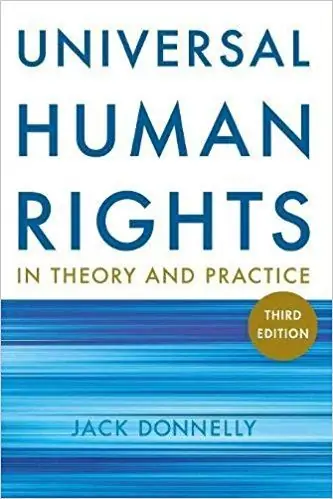
Так почему же я потратил время, чтобы обрисовать отсутствие неизбежности в истории в посте о правах человека? Основная причина в том, что права человека также не являются неизбежными. Общеизвестный секрет движения за права человека заключается в том, что концепция прав человека не является трансцендентным идеалом, ниспосланным свыше. Подобно социальной конструкции неотъемлемых прав, давно закрепленной в Декларации независимости - давно являющейся американским идеалом, - права человека являются социальной конструкцией. По терминологии историка Юваля Харари права человека - это «вымысел». Это особенно замечательная художественная литература, но, тем не менее, это то, что мы, люди, придумали. во времени и среди различных культур.)
Вот как профессор политологии Джек Доннелли излагает это в своем широко известном учебнике по правам человека (Cornell University Press, 2013):
Права человека в конечном счете основываются на социальном решении действовать так, как если бы такие «вещи» существовали, а затем посредством социального действия, направляемого этими правами, сделать реальным мир, который они представляют. Это не делает права человека «произвольными» в том смысле, что они основаны на выборе, который с тем же успехом мог бы быть случайным. Они также не являются «просто обычными», примерно так, как левостороннее движение требуется в Британии. Как и все социальные практики, права человека имеют обоснования и, в важном смысле, требуют их. Эти обоснования, однако, апеллируют к «основаниям», которые в конечном счете являются вопросом согласия или предположения, а не доказательства. (22).
Итак, хотя нет никаких гарантий, что права человека будут соблюдаться, существует огромная ценность в отстаивании мирового порядка, основанного на универсальных правах человека.
И хотя права человека не являются неизбежными, сила прав человека заключается в том факте, что права человека по определению неотъемлемы. Ничто из того, что кто-либо может сделать, не может сделать кого-либо более или менее достойным своих прав человека (10). Обратите внимание на слово «чужой» в середине слова «неотчуждаемый». С точки зрения движения за права человека ваши права человека не могут быть «отчуждены» от вас; они не могут быть отделены от того, кто мы есть как человеческие существа. Это универсальные, равные права для всех людей без исключения. Как и в случае с Первым принципом UU («неотъемлемая ценность и достоинство каждого человека»), в основе прав человека лежит убеждение и глубокая ценность того, что все люди - независимо от того, кто и что - заслуживают «минимальных условий для достойной жизни» (Доннелли 16).
Рискуя затянуть тему, я хочу подчеркнуть, что эта концепция - эта ценность (которая может показаться невероятно очевидной для западных либералов двадцать первого века) - была далека от принятия большинством людей, живших. Исторически гораздо чаще преобладало мнение, что те, кого даровали и с которыми обращались с достоинством - те, кого воспринимали как обладающих внутренней «ценностью», - были элитой, богатыми и влиятельными немногими: члены королевской семьи, аристократия, стоящая на вершине различных политических, социальных или религиозных иерархий (121). Остальные из нас - сбившиеся в кучу массы, простолюдины, hoi polloi - чаще воспринимались либо патерналистски, «как объекты, которые должны быть обеспечены, пассивные получатели благ, а не творческие агенты, имеющие право формировать свою жизнь». 35).
Слишком часто подразумевалось, что мы, простолюдины (которым не хватало внутренней ценности и достоинства), должны быть благодарны за все, что мы получили от тех, кто не только уже украл у нас наши неотъемлемые права на равные возможности, но также считал, что они ничего нам не должен. (Это мировоззрение продолжает лежать в основе споров о том, действительно ли наши различные сети социальной защиты являются просто «правами», которыми пользуются «берущие».”)
Действительно, ученые показали, что - хотя существуют различные ограниченные предшественники - наша современная концепция универсальных международных прав человека восходит к семидесятилетней давности, когда в 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека, написанная в ответ на ужасы Второй мировой войны (75ff). В самом деле, полезно помнить, что именно ужасы, авторитаризм и фашизм Второй мировой войны, столь ярко продемонстрировавшие отсутствие неотвратимой гарантии уважения человеческого достоинства, побудили принять Всеобщую декларацию Права человека (Доннелли 170-171).
И я нахожу невероятно важным быть частью религиозного движения, которое черпает свой Первый Принцип непосредственно из начала преамбулы и первой статьи Всеобщей декларации прав человека ООН. В преамбуле говорится, что «признание присущего достоинству и равных и неотъемлемых прав всех членов человеческой семьи является основой свободы, справедливости и мира во всем мире. В начале статьи I говорится: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать по отношению друг к другу в духе братства». Звучит довольно UU-или, возможно, я должен сказать, что UUism звучит довольно «правозащитным».
Итак, в свете этих идей, которые мы прослеживаем, как мы можем лучше всего достичь высокой планки цели мирового сообщества с миром, свободой и справедливостью для всех? Одним из предложений является Глобальный новый курс, состоящий как минимум из пяти основных частей:
- Глобальный «План Маршалла» (похожий на экономическую помощь, предоставляемую для восстановления европейских экономик после Второй мировой войны), который будет включать полное списание всех долгов стран третьего мира.
- Налог на международные финансовые операции, который пойдет на пользу глобальному Югу.
- Отмена оффшорных финансовых центров, которые предлагают налоговые убежища для богатых людей и корпораций.
- Выполнение строгих глобальных экологических соглашений.
- Реализация более справедливой глобальной повестки дня в области развития. (Стегер 118)
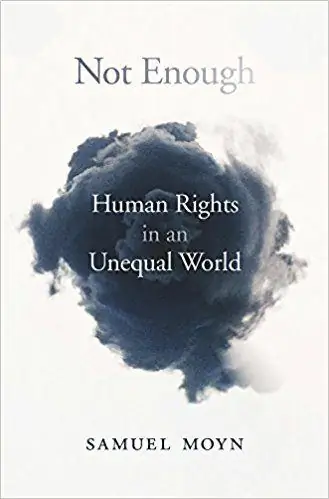
Это высокие стандарты. Но если у нас есть хоть какая-то надежда на достижение нашей цели «мировое сообщество с миром, свободой и справедливостью для всех», я призываю вас принять во внимание, что для этого потребуется нечто большее, чем слоган с наклейкой на бампер «Думай глобально, действуй локально».” В то время как действие на местном уровне останется жизненно важным («Вся политика локальна!»), цель мирового сообщества потребует от нас не только «мыслить глобально», но и «действовать глобально». Например, эта цель может потребовать «Глобального благосостояния», оплачиваемого «Глобальным налогом на богатство» (Moyn 219).
В том же духе профессор истории и права Йельского университета недавно опубликовал убедительную книгу под названием «Недостаточно: права человека в неравном мире» (Harvard University Press, 2018). Хотя Мойн восхищается «твердым полом» движения за права человека (стремящегося обеспечить базовый минимум для всех), он пришел к выводу, что этой цели недостаточно: права человека необходимы, но недостаточны для строим мир, о котором мечтаем (xii).
Мойн подчеркивает, что «Права человека, даже полностью реализованные права человека, совместимы с неравенством, даже радикальным неравенством» (213). Он призывает нас решить вопрос, можем ли мы действительно иметь «мировое сообщество с миром, свободой и справедливостью для всех», если мы также допустим крайнее неравенство в доходах и богатстве. Это не означает, что нам нужен полный эгалитаризм. Мотив прибыли, скорее всего, останется основным фактором почти любой успешной версии мирового сообщества. Но он говорит, что крайнее неравенство, возможно, несовместимо с «миром, свободой и справедливостью для всех», потому что крайнее неравенство денег и других ресурсов дает слишком много власти в руки слишком немногих.
Мойн утверждает, что нам нужен не только прочный фундамент прав человека, чтобы обеспечить базовый минимум достоинства для всех, но и в какой-то момент потолок для защиты от крайнего неравенства. Он призывает нас «спасать себя от наших низменных амбиций» - ставить перед собой более высокие цели, если у нас когда-нибудь появится шанс построить мир, о котором мы мечтаем (220).
Преподобный доктор Карл Грегг является сертифицированным духовным руководителем, D. Min. выпускник теологической семинарии Сан-Франциско и священник Унитарной универсалистской конгрегации Фредерика, штат Мэриленд. Подпишитесь на него в Facebook (facebook.com/carlgregg) и Twitter (@carlgregg).
