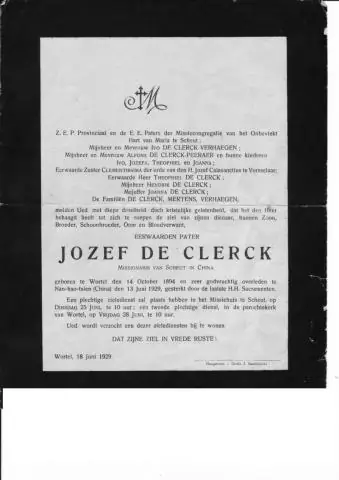Во-первых, некролог…

А теперь несколько мыслей…
«Жизнь человека меняется, когда его отец покидает этот мир», - написал один из моих многочисленных замечательных друзей, которые нашли время, чтобы вчера поделиться со мной своими мыслями, молитвами и соболезнованиями. Это замечание, похоже, произвело на меня особое впечатление не потому, что я полностью осознаю, что оно означает в моем случае - слишком рано говорить об этом, - а потому, что моя жизнь, in toto, кажется, сейчас находится в стадии посвящения. Во-первых, я был болен: у меня были некоторые проблемы с аллергией, которые привели к неоднократным визитам к врачу, и я только что оправился от довольно неприятного приступа гриппа (несмотря на то, что мне сделали прививку от гриппа; я был одним из «счастливчики», которым прививка не помогла). Кроме того, теперь в моей жизни много новых предприятий: в течение последних шести месяцев я начал преподавать в программе Emory Continuing Education Creative Writing Certificate; на личном уровне я начал работать с новым бизнес-тренером и инструктором по медитации, а затем была выпущена моя последняя книга «Отвечая на призыв к созерцанию» - я получил свои авторские экземпляры в тот же день, когда мой отец начал лечиться в хосписе. Так что моя жизнь меняется уже довольно быстро. Потеря папы, хотя и не совсем неожиданная, и после такого долгого периода болезни, кажется мне, каким-то образом закрепляет это время значительного перехода. Куда это меня ведет? Следите за обновлениями; мы можем удивиться вместе.
Папа попал в хоспис в пятницу, а затем в субботу мой друг внезапно умер; женщина моего возраста, активная в своей карьере, синагоге и межконфессиональном сообществе Атланты (откуда я ее знала), оставившая после себя трех замечательных сыновей и ошеломленную жемчужину человека, который только что потерял свет своей жизни. Поскольку мое внимание было сосредоточено на моем собственном здоровье, а также на упадке и смерти моего отца, я не мог быть рядом с моим другом, как мне хотелось бы; но чудовищность его потери осталась в моем сознании, придавая моей утрате ощущение контекста, но также парадоксальным образом обостряя ее жало. Конечно, потеря родителя после долгой жизни, а затем болезни, которая дала время попрощаться, далеко не так мучительна, как внезапная, непредвиденная потеря кого-то в расцвете сил. Но это все равно потеря. То безжизненное тело, которое я видел в похоронном бюро в Афинах во вторник, теперь превратилось в прах в урне. Я никогда не услышу, как папа рассказывает другую историю или шутку, или наслаждается нежной тишиной его спокойного, но уверенного присутствия.
Папа был отличным рассказчиком, хотя никогда не хвастался и не преувеличивал (как старик из «Большой рыбы»). Мой отец предпочитал рассказывать сказки, как правило, с сухим юмором: он мог сплести слегка забавную байку, например, историю о том, как он женился на моей матери - городской девушке из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, - и они уехали в Мичиган, чтобы она мог познакомиться с его семьей. Их путешествие включало поездку по сельской местности северной части штата Нью-Йорк после наступления темноты, и мама была так невинна, что, выехав из города и отправившись по проселочной дороге в темноту ночи, повернулась к отцу и сказала: «Должно быть, была буря.” Он спросил ее, почему она так думает, и она ответила: «Потому что все уличные фонари выключены». Ему пришлось мягко сообщить своей горожанке-невесте, что нет, уличные фонари не распространяются за город.
Это очаровательная маленькая история, и когда папа рассказал ее, все в комнате рассмеялись, даже мама. Отчасти его гениальность заключалась в его способности рассказать историю о ком-то, не высмеивая этого человека. Папа знал, что эта конкретная история была не столько о маминой наивности, сколько просто о вековом столкновении города и деревни, и вот как он это обыграл. Несмотря на то, что отец был интровертом со Среднего Запада, в его характере была двойная доза сдержанности, ему удавалось передать всю глубину своей любви людям в его жизни - маме, трем его сыновьям, его семье на родине - и так далее. даже когда наступала твоя очередь быть пораженным его гэльским умением рассказывать остроумные истории, это всегда казалось безопасным, веселым, хорошим способом посмеяться.
Папа был летчиком, охотником, рыбаком, разнорабочим по дому. Он не очень увлекался командными видами спорта (еще один признак его замкнутости), предпочитая тишину леса или безмятежность воды, где он осознанно преследовал свою добычу. Используя такие слова, как «тишина» и «безмятежность», я признаю, возможно, самый важный из многих даров, которые он дал мне: сырой материал для созерцательного способа существования в мире. В то время как я воспринял эту интуитивную любовь к тишине и покою и следовал учениям и практикам таких традиций мудрости, как христианский мистицизм или тибетский буддизм, папа был больше похож на того, кого Томас Мертон назвал «созерцателем в маске» - человеком, для которого глубокое понимание тайна молчания не заложена ни в какой религиозной практике, а просто есть. Мы с папой никогда не говорили о медитации или созерцании, но мы знали, что значит молчать вместе, и это, в конечном счете, самое главное. Он научил меня быть созерцателем, хотя за 52 года я не думаю, что когда-либо слышал это слово от него.
Утверждая, что папа был естественным, а не религиозным созерцателем, я не имею в виду, что ему не хватало веры. В моем отце было достаточно рудиментарного шотландского друидизма, чтобы бессознательно признать, что он верит в призраков; Однажды, когда гулял и наткнулся на круг грибов, папа показал и сказал: «Смотри, колечко фей». Но, как и кельты старой страны, он легко носил фольклор своих предков в рамках христианского мировоззрения. Его мать была методисткой, а отец пресвитерианином, но он не был воспитан в соблюдении религиозных обрядов, и, будучи молодым офицером ВВС, он разочаровался в организованной религии после того, как вытерпел высокомерного капеллана, который проповедовал пасхальную проповедь, в которой критиковал «христиан Рождества и Пасхи». ». Интуитивно мой отец знал, что гостеприимство превосходит конфронтацию как самое верное выражение Евангелия. Но, наконец, когда в моем подростковом возрасте в нашем районе открылась лютеранская миссия, он, мама и я (мои братья к тому времени ушли из дома) присоединились к ней; со временем он стал настоящим церковным деятелем, преподавал в воскресной школе и служил в церковном совете. Его прах будет похоронен рядом с маминым в той церкви, которая стала путеводной звездой его духовной жизни.
Но папина вера никогда не отличалась от его личности в целом, то есть тихой и сдержанной; Ясно понимаю, что самый верный признак силы - мягкость, а не агрессия. Он был наблюдателем: в социальных ситуациях или даже просто за едой ему было комфортно сохранять спокойствие и обращать внимание на то, что происходит. У меня сложилось впечатление, что он редко пропускал трюк. В конце своей жизни, опустошенный слабоумием, он, казалось, наслаждался, когда мы с моим братом Доном вместе навещали его, и мы вдвоем обсуждали политику или что-то еще, что было у нас на уме. Раз или два, когда я извинялся перед ним за то, что больше не привлекал его к разговору, он говорил: «Нет, правда, я просто отлично развлекаюсь».
У нас определенно были свои разногласия. Выросший в 60-х и 70-х годах, дитя контркультуры, я в конце концов променял охоту на вегетарианство, лютеранство на неоязычество, а горячую папину поддержку NRA на ненасильственные философии таких людей, как Ганди, Толстой или Томас Мертон. Мама была республиканкой в доме; Папина политика была выкована в мире рабочих конца 30-х и 40-х годов; но Вторая мировая война и последующая карьера в ВВС сделали его гордым патриотом, «моя страна права или нет», который в конечном итоге стал настолько одержим второй поправкой, что просто не знал, что делать со своим сыном-хиппи-миротворцем. Большую часть 80-х и начала 90-х мы держались на расстоянии; Я избегал семейных встреч и несколько лет видел их только на Рождество. Но мы испытали собственную разрядку, когда в 1992 году я попал в тяжелую автомобильную аварию, и мама с папой, которым тогда было под шестьдесят, всю ночь ехали из Вирджинии в Теннесси, чтобы быть рядом со мной в больнице. Этот жест не только вырвал меня из моей незрелой уверенности в том, что мои родители не такие, как они есть, но и познакомил их с молодой женщиной, с которой я только что начал встречаться и которая следующим летом станет моей невестой.
Мама и папа любили Фрэн так, как будто она была дочерью, которой у них никогда не было, и приняли ее дочь Рианнон, даже с ее серьезными недостатками, с любовью и искренним состраданием. Стало понятно, что когда мы навещали людей и ходили в церковь, по магазинам или куда-то еще, папа был тем, кто толкал инвалидное кресло Рианнон. Став семейным человеком, я обнаружил, что мне есть о чем поговорить с отцом: о радостях и слабостях мужа и, особенно, отца. Хотя мили, отделяющие Вирджинию от Джорджии, означали, что мы виделись всего несколько раз в год, мы пятеро оставались связанными до смерти мамы и после нее. Затем, когда мой брат и невестка устали от виргинских зим и переехали в Афины, штат Джорджия, вскоре после смерти мамы, мы договорились, что папа тоже поедет на юг. В марте 2008 года я отправился в Вирджинию, чтобы сопровождать его во время его полета вниз. К тому времени папа прожил с болезнью Паркинсона более десяти лет и начал страдать от галлюцинаторного типа слабоумия (он часто видел «невидимых» котят и щенков, резвящихся рядом с ним), что означало, что он больше не мог водить машину и нуждался в помощи. В ночь перед поездкой он был заметно взволнован, чего я не привыкла видеть."У тебя все нормально?" Я спросил, и он ничего не сказал. - Нервничаете по поводу переезда? Он кивнул. Это был редкий момент, когда мужественный, глубоко охраняемый охотник/пилот действительно позволял себе быть уязвимым перед своим младшим сыном. Я обнял его и сказал: «Все будет хорошо». - Я знаю, - ответил он, возвращаясь к своей обычной уверенности. И это было так. На следующий день мы сели в самолет, который должен был стать последним полетом этого старого пилота, и он ни разу не оглянулся.

Первый год, когда он был в Джорджии, был восхитительным: почти каждое воскресенье мы проезжали шестьдесят миль до Афин, чтобы отвезти его в церковь, а затем поесть, а иногда и по магазинам или в такие места, как ботанический сад Джорджии. Но прогресс слабоумия был неумолим. Сначала мы знали, что у него был плохой день, когда он жаловался на затуманенность ума. Но в конце концов дошло до того, что в хороший день он жаловался на затуманенный разум, а в плохие дни он просто терялся в замешательстве. Но что меня поразило, так это его дух. В основном он оставался оптимистичным, добрым и почти непринужденным в своей ситуации, даже когда жизнь становилась для него все более и более подавляющей, неразрешимой загадкой. В отличие от мамы, которая изо всех сил боролась со своим слабоумием, папа просто смирился с этим. Когда он попал в дом престарелых, окруженный в основном молодыми женщинами, которые работали его медсестрами и сиделками, он флиртовал и очаровывал их, и они отвечали тем же. Я потерял счет тому, сколько его опекунов сказали мне, что любили его за более чем три года, которые он провел в доме.
Одна из этих медсестер позвонила мне на прошлой неделе и сообщила, что у него жар, и он не ест. Она задавалась вопросом, думали ли мы, что ему нужно было пойти в отделение неотложной помощи. Я предложил, чтобы они ухаживали за ним там (ему давали внутривенные жидкости), так как мы всегда могли обратиться в отделение неотложной помощи позже, если его состояние ухудшится. Мой брат вышел на связь, и разговор привел к вопросу об уходе за хосписом. - Мы думаем, что пора, - мягко признала медсестра. Вскоре стало очевидно, что папа не только не ест, но и не сотрудничает со своим лекарством. С хосписом мы сместили акцент на то, чтобы ему было комфортно. Мой брат сказал: «Теперь, когда он в эндшпиле, ты знаешь, что он может уйти быстро». Через три дня его не стало. Я сказал: «Зная его, держу пари, что он уйдет, когда останется совсем один». Именно это он и сделал.
В 1964 году папа уехал из Вирджинии в многомесячное турне по Вьетнаму. Мне было три года, слишком маленький, чтобы понять смысл происходящего. Но я уверен, что уловил беспокойство мамы и, возможно, даже папы по поводу того, что может означать эта разлука. Мы добрались до аэропорта, и я закатил истерику на века. Я схватил папу за ноги и начал выть, как банши. Моим братьям пришлось физически сдерживать меня и выносить из комнаты, чтобы мама и папа могли спокойно попрощаться. Сейчас почти пятьдесят лет спустя, и я снова прощаюсь с папой. На этот раз я не кричу и не вою (по крайней мере, пока). Но я думаю, что держусь за Фрэн немного крепче, чем обычно. Мой друг, у которого только что внезапно умерла жена, всем говорил: «Обязательно говорите тем, кого любите, что вы их любите». Какой важный совет, и не только для тех случаев, когда мы оказываем гостеприимство смерти. Это совет, который мы должны слышать и учитывать каждый день.