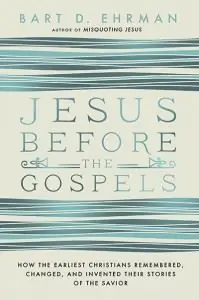Одним из моих любимых предметов в колледже был «Иисус и Евангелия». По иронии судьбы, одним из моих самых сильных воспоминаний о классе был не урок, задуманный профессором. Во время серии презентаций ближе к концу семестра один студент, вместо того чтобы выполнить задание по использованию историко-критических методов исследования, воспользовался возможностью осудить все, что мы узнали в этом семестре, как еретическое, и в заключение процитировал Евреям 13:8: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Профессор больше сдерживалась и ограничивалась тем, что говорила со спокойной суровостью что-то вроде: «Уходи. Вы явно ничему не научились. Пожалуйста, выйдите из комнаты сейчас».
С точки зрения ортодоксального христианства студент был прав. Мы учились ереси. Но корень слова «ересь» просто означает «выбирать» - как при выборе для себя, во что верить или что делать, в отличие от того, чтобы верить или делать что-то из-за того, что вам говорит авторитетная фигура..
Еще одним сильным воспоминанием из этого класса была цитата из историка Иисуса Джона Доминика Кроссана, который сказал: «Вопрос в том, являются ли рассказы о страстях историзированными пророчествами или историческими воспоминаниями. Рэймонд Браун [ортодоксальный римско-католический ученый] на 80% придерживается направления помненной истории. Я на 80% против». Эти статистические данные согласуются с захватывающими заголовками пресс-релизами семинара по Иисусу в 1990-х годах о том, что исторический Иисус сказал только около 20% слов, приписываемых ему.
Мой одноклассник, напротив, утверждал, что Иисус сказал и сделал 100% того, что говорит Библия.(Что христианские писания на 100% «исторически помнят».) Но чем больше я исследую, тем больше убеждаюсь в точке зрения Кроссана: Евангелия по большей части являются «историзированными пророчествами». Другими словами, Евангелия возникли в результате десятилетий чтения христианами древних иудейских пророчеств, рассказывания и пересказа устных преданий и вплетения этих ингредиентов в «историю». (если вам интересно исследовать этот процесс дальше, лучшая отправная точка, которую я нашел, это книга Кроссана «Кто убил Иисуса?»)
Пытаясь отделить «Историю, которую вспоминают» от «Историзированного пророчества» в «Поиске исторического Иисуса», я не могу выделить одну деталь, которую я не могу достаточно сильно подчеркнуть, - это важность помнить, что Иисус из Назарета был крестьянином из малоизвестной деревни Иисус не был царственным человеком, о котором у нас часто есть исторические записи. Скорее, у нас есть только общий диапазон лет, когда он родился и когда он умер. (Мы знаем время года, когда он умер - около ежегодного еврейского праздника Песах, - но не год, который часто оценивается как 27-30 гг. E.) Более того, существует сорокалетний разрыв между смертью Иисуса и написанием Евангелия от Марка, самого раннего из канонических Евангелий.
Имейте в виду, что и Иисус, и его ученики были «неграмотными крестьянами из низшего сословия, говорившими на арамейском языке», тогда как Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна) «были написаны высокообразованные грекоязычные христиане сорок-шестьдесят пять лет спустя» (Ehrman 70). Умение написать текст, похожий на одно из Евангелий, было редким талантом. Как показала ученый Кэтрин Хезсер в своем эпохальном исследовании «Еврейская грамотность в римской Палестине», примерно «97 процентов людей в Палестине во времена Иисуса не умели ни читать, ни писать». И из этих трех процент, больше мог читать, чем писать (80).
Что касается сорокалетнего разрыва между жизнью исторического Иисуса и самыми ранними евангельскими записями, необходимо развенчать два самых больших мифа: (1) что Евангелия являются свидетельствами очевидцев и (2) что люди в устных культурах память лучше, чем у нас сегодня. Во-первых, Евангелия почти полностью написаны от третьего лица и не претендуют на то, чтобы быть составленными очевидцами исторического Иисуса (106). Во-вторых, «консенсус как среди антропологов, так и историков культуры» заключается в том, что люди устной культуры «обычно забывают о том же, что и другие люди» (182). В самом деле, вместо лучшей памяти ситуация еще более ужасна: если что-то забыто в устной культуре, это «потеряно навсегда»; тогда как в наш информационный век мы можем просто «погуглить» (182).
В этом отношении многое можно узнать о Поисках Исторического Иисуса из «Поисков Исторического Гомера», в котором есть много параллельных вопросов. Наиболее важной книгой в этом отношении является классическая книга Альберта Лорда 1960 года «Певец сказок» (184). Эта история об устных культурах задокументировала следующее: «В устном контексте каждый раз, когда рассказывается история, она меняется. «Суть» остается почти такой же, но детали меняются. Часто их массово меняют» (185).
Настоящий сдвиг парадигмы от устной культуры к письменной не в том, что память людей превосходит устную культуру. Скорее, в устной культуре отношение к традиции иное, поскольку нет письменного оригинала, который можно было бы сравнить. Исследователи, которые со временем делают стенограммы устных культур, показали, что в устной культуре « Каждое исполнение есть и всегда было другим…. Тот, кто исполняет традицию, изменяет ее в свете своих [или ее] собственных интересов, ощущения того, что аудитория хочет услышать, количества времени, [доступного] для того, чтобы рассказать или спеть ее, и множества других факторов» (186).
При этом, если вы спросите исполнителей в устной культуре, остается ли песня неизменной с течением времени, многие настойчиво ответят «да». Но на самом деле они имеют в виду «суть» песни, потому что исследования показали, что выбор слов и общая продолжительность сильно различаются от исполнения к исполнению. Эта динамика также была бы в случае с учением Иисуса, которое варьировалось бы в деталях, даже если бы суть оставалась довольно последовательной - подобно тупым речам политиков, которые имеют постоянные темы, детали которых варьируются в зависимости от аудитории.
Такие расхождения также имели место, когда истории об Иисусе передавались от человека к человеку в течение сорокалетнего перерыва между его смертью и самым ранним Евангелием. Так что, когда вы слышите, что исторический Иисус сказал только около двадцати процентов слов, приписываемых ему в Евангелиях, под этим утверждением скрывается понимание того, что "суть", которая наименее вероятно изменится, - это "изюминка" в суть историй, приписываемых Иисусу, тогда как окружающие детали сильно различаются даже от Евангелия к Евангелию.
В связи с этим рассмотрим эту современную притчу, написанную богословом Кэтрин Келлер:
Умер человек. Люди, знавшие его, собрались, чтобы поделиться воспоминаниями. Наконец, был заказан портрет. Но по прошествии поколений картина казалась недостаточно прекрасной. Наследники портрета, разбогатевшие, создали новую золотую раму, огромную, вырезанную по мотивам портрета и инкрустированную драгоценными камнями. Людям стало казаться, что старый портрет этого смуглого парня с затравленными глазами снижает эффект. Так как от возраста начал облезать, удлинили раму внутрь. Однажды рамка покрыла весь холст. (133)
В поисках Исторического Иисуса необходимо тщательно убрать рамки, которые расширились за два тысячелетия.
Относительно того, как мы должны подходить к этому про
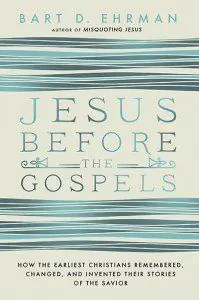
cess, исследователь истории Иисуса Барт Эрман опубликовал важную новую книгу под названием «Иисус до Евангелий: как первые христиане помнили, изменяли и изобретали свои истории о Спасителе». Наиболее значительным вкладом этой книги является применение того, что мы узнали из нейронауки двадцать первого века, к Поискам Исторического Иисуса. Цель Эрмана состоит в том, чтобы отделить то, что мы могли бы свидетельства очевидцев, которые на 100% отражают «историческую память» о жизни и смерти Иисуса из Назарета) из того, что у нас есть (письменные записи, сделанные спустя десятилетия после того, как факт, отражающий «историзированное пророчество»).
Возможно, наиболее устрашающий способ, которым современная наука ставит под сомнение точность «истории в памяти», заключается в том, что даже если христианские Евангелия были написаны очевидцами (на что они не претендуют), это опустошительно, чтобы обнаружить, что в уголовных делах, обвинительные приговоры по которым были отменены на основании анализа ДНК, «примерно в 75 процентах отменённых приговоров лицо, обвиняемое в совершении преступления, было осуждено исключительно на основании свидетельских показаний» (89). Иногда это может быть связано с тем, что свидетель солгал, чтобы добиться осуждения, но также вероятно, что очевидцы иногда упускали важные детали или неправильно помнили событие, даже если они были свидетелями этого воочию.
Рассмотрим три примера. Во-первых, в 1902 году криминалист по имени Франц фон Лист устроил драку на одной из своих лекций, в которой два студента симулировали спор, который обострился до тех пор, пока один из них не вытащил пистолет и не выстрелил из него. Выяснив, что все это было игрой, профессор Лист поручил группе студентов записать то, чему они были свидетелями. На следующий день другая группа студентов получила такое же задание, а последнюю группу попросили записать свои воспоминания об этом эпизоде неделю спустя (87). «Наиболее точные отчеты содержали ошибки в 26 процентах сообщаемых сведений. Другие ошибались на целых 80 процентов» (88). Этот эксперимент был одной из первых научных проверок показаний очевидцев.
Вот второй пример: когда в 1986 году взорвался космический шаттл «Челленджер», двум психологам из Университета Эмори пришла в голову идея провести на следующий день опрос из семи вопросов среди 106 студентов на курсе психологии бакалавриата о том, «где они были, когда услышали новость, какое время суток, что делали в это время, от кого узнали и т. д. Через полтора года им удалось найти сорок четыре студента и провести ту же анкету. Еще шесть месяцев спустя они опросили сорок первых студентов:
- 75% ответивших на второй вопросник были уверены, что никогда не заполняли первый. Это было явно неправильно….
- Двадцать пять процентов участников дали неправильный ответ во втором вопроснике, несмотря на то, что их воспоминания были яркими, и они были очень уверены в своих ответах.
- Еще 50% ответили правильно только на два из семи вопросов. Только трое из сорока четырех дали правильные ответы во второй раз, и даже в этих случаях были ошибки в некоторых деталях.
- Когда уверенность участников в своих ответах была ранжирована по отношению к их точности, было обнаружено «отсутствие связи между уверенностью и точностью вообще» в сорока двух из сорока- четыре экземпляра….
- Когда они столкнулись с доказательствами того, что действительно имело место, они последовательно отрицали это и говорили, что их нынешние воспоминания были правильными.
По словам исследователей, «Никто из тех, кто давал неверные показания в интервью, даже не делал вид, что теперь вспомнил то, что было указано в исходной записи. Насколько мы можем судить, первоначальные воспоминания просто исчезли» (141-142). Эти результаты, которые были воспроизведены в других исследованиях, важны как для понимания наших собственных воспоминаний, так и для понимания того, как Иисуса и других известных личностей помнят и вспоминают.
Среди многих других важных научных исследований памяти вот третий и последний пример из исследования под названием «Вы помните, как делали предложение руки и сердца машине Pepsi?»:
Психологи Уэслианского университета отвезли сорок студентов в разные места на территории кампуса. «В каждом месте их просили либо выполнить действие, либо представить его выполнение в течение десяти секунд, либо наблюдать за экспериментатором, выполняющим действие, либо представить экспериментатора, выполняющего его. Действия были либо нормальными, либо странными. Например, если они были в библиотеке, их просили найти слово в словаре; или их просили погладить словарь и спросить, как дела. В другом месте их просили проверить машину Pepsi на наличие сдачи или встать на одно колено и предложить ей выйти замуж.
Две недели спустя в интервью «Независимо от того, было ли действие нормальным или странным, участники, которые воображали его, часто вспоминали, как это делали…. Яркое представление действия, но только один раз, могло вызвать ложное воспоминание. Более того, представление того, как кто-то другой выполняет действие, вызывало столько же ложных воспоминаний, сколько и представление о том, что он делает это сам» (94). Это современное, научное понимание памяти является одним из многих факторов, которые следует учитывать при изучении того, как истории об Иисусе запоминались, изменялись и изобретались.
По мере того, как я проводил свои собственные Поиски Исторического Иисуса, один из выводов, к которому я пришел, состоит в том, что авторитет христианской традиции не основывается исключительно на том, совершил ли Иисус из Назарета или нет сказать или сделать что-то две тысячи лет назад. Я по-прежнему интересуюсь этим историческим исследованием, но более важный вопрос более прагматичен: помогает ли высказывание или действие из христианской традиции - или из любого другого источника - сформировать более сострадательное, обоснованное и великодушное жизнь. Если это так, то я благодарен, независимо от того, исходит ли оно от исторического Иисуса или оно было изменено, неверно приписано или изобретено более поздним человеком. Будем же благодарны за мудрость из любого источника, если она ведет к увеличению любви и радости, мира и справедливости.
Преподобный доктор Карл Грегг - обученный духовный руководитель, доктор мин. выпускник теологической семинарии Сан-Франциско и священник Унитарной универсалистской конгрегации Фредерика, штат Мэриленд. Подпишитесь на него в Facebook (facebook.com/carlgregg) и Twitter (@carlgregg).