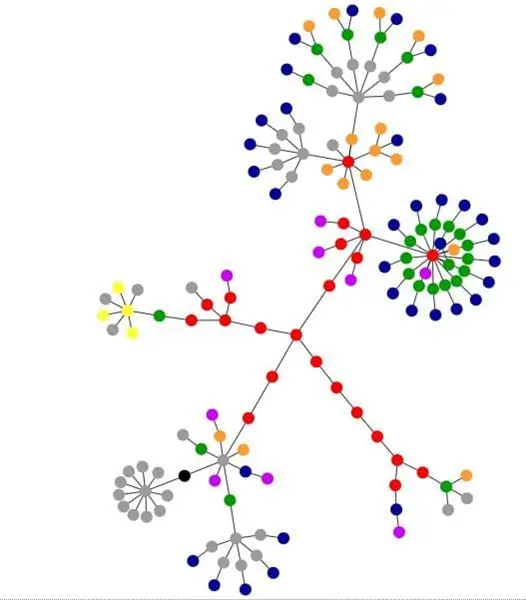Язык постоянно развивается. Слова со временем меняют свое значение. Вот почему так легко неверно истолковать старый текст. Мы склонны интерпретировать его анахронично, думая, что используемые в нем слова означают то же самое, что и сегодня. Конечно, мы делаем это не со всеми древними текстами и не со всеми словами, изменившими свое значение, но делаем это достаточно, чтобы вызвать у нас герменевтические проблемы. Хотя это может быть и часто является проблемой во многих областях исследований, это особая проблема в теологии. Хотя одни и те же слова имеют разное значение в зависимости от времени и места, в котором они используются, как только слово приобрело важное техническое значение, все предыдущее использование этого слова может быть и часто истолковывается неправильно, как если бы это техническое значение было предназначено, или другие, зная только старое значение слова, не поймут его нового использования и, таким образом, в конечном итоге отвергнут тексты, которые представляют понятия, в которые они иначе верят.
Многие богословские споры являются результатом такого рода непонимания. Мы можем видеть это в том, как творения св. Кирилла Александрийского читаются и интерпретируются последующими христианами. Когда люди читали, что он говорил об «единой воплощенной природе» Христа, некоторые читали это не в контексте того, как он понимал слово «природа», а с более поздним, более развитым, отчетливым значением «природы», которое отличалось от "человек." Другие, однако, читали его так, как он не различал личность и природу, и именно они отрицают Христа как имеющего две природы. Если бы все понимали, насколько расплывчато употреблялись термины «природа» и «личность» во времена св. Кирилла и до него (например, в Никее), так что оба они часто употреблялись для обозначения одного и того же значения, то можно было бы посмотрите, почему было бы неправильно читать более позднее, отчетливое, техническое использование слова «природа» в тексте св. Кирилла. Святой Кирилл еще при жизни пришел к пониманию, что проблема заключается не в словарном запасе, а в значении словаря, так что он мог найти единство веры с теми, кто использовал слова с другим значением.[1] К сожалению, многие из его читателей не оценили этот факт; вместо того, чтобы пытаться следовать смыслу, подразумеваемому его произведениями, они материализовали его выбор слов, требуя от людей использовать его особую фразеологию «единой воплощенной природы». В то время как последователи Кирилла часто следовали его свободному использованию термина «природа», чтобы они могли принять союз с теми, кто следовал антиохийской формулировке, были и те, кто читал Кирилла анахронически, понимал природу в ее более позднем, техническом значении и т. закончилось отрицанием Христа как имеющего две природы после воплощения. Это означает, что некоторые из тех, кто отвергал Халкидон, делали это потому, что действительно придерживались еретического толкования Кирилла, но большинство не читали Кирилла таким образом.[2]
Имея дело с теологическими заявлениями, важно то, что имелось в виду под этими заявлениями. Слова, безусловно, важны, поскольку они могут помочь нам распознать предполагаемое значение, но мы должны понимать, что используемые слова действуют только как слуги этого значения. Мы не должны чрезмерно привязываться к самим словам; то есть мы не должны привязывать высшие истины богословия к словам, а затем думать, что способ богословия, способ правильного провозглашения веры заключается в повторении правильных слов и отклонении неправильных слов. Если в какое-то время и в каком-то месте какое-то слово было осуждено, мы должны выяснить, почему оно было осуждено. Мы можем понять осуждение слова homoousios на Антиохийском соборе около 269 г., поняв, что оно было осуждено из-за того, как оно использовалось Павлом Самосатским, который использовал его таким образом, который отрицал личные реальности Отца, Сына и Святой Дух. Когда Никея использовала homoousios, ариане указали, как это слово было осуждено, но они проигнорировали, почему оно было осуждено, потому что тогда они поняли бы, что это слово использовалось Павлом Самосатским совсем иначе, чем те, кто установил Никейский символ веры.. Вот почему после Никеи, когда многие из тех, кто сомневался в употреблении слова homoousios, исследовав, как оно употреблялось в Никее, пришли к согласию с Никеей и использованием в ней слова homoousios, это показывает нам, что некоторые разногласия после Никеи исходили из недоразумение вместо какого-либо существенного богословского разногласия. Таким образом, св. Кирилл Иерусалимский, когда он узнал истинное значение Никеи, принял ее учение, хотя одно время считалось, что он отвергает сам собор.
То, что верно в отношении выбора слов, верно и в отношении богословских систем. Ценность этих систем заключается в значении, на которое они указывают. Точно так же, как слова не могут содержать трансцендентную истину, а только указывают на нее, так и системы, опирающиеся на слова и технические определения, данные таким словам, не могут постичь трансцендентную истину, а могут только указывать на нее. Различные богословские системы развивались с течением времени. Каждая из них предлагает нам способы постижения богословских истин. Они помогли нам найти какое-то объяснение великим тайнам веры и тем самым предоставили базовую основу, в которой люди нуждались, чтобы верить. В этом отношении они оказали большую услугу вере. Проблема, с которой мы должны столкнуться и отбросить, заключается в замешательстве, которое испытывают некоторые люди, считающие, что одна конкретная богословская система представляет собой истину, и поэтому только те, кто следует ей, могут постичь истину. Когда это происходит, теологическая истина теряется, поскольку ограниченное осознание и потенциал, присущие любой данной системе, мешают тем, кто абсолютизирует такую систему, искать и переживать трансцендентную истину. И когда встречаются две соперничающие богословские системы, если их приверженцы понимают ограничения своей конкретной системы, они могут учиться и ценить друг друга. Но если они являются строгими приверженцами своих систем, так что они путают истину как только с тем, что содержится в их системе, тогда они стремятся критиковать и отвергать любую другую систему и таким образом неверно истолковывают другую систему, чтобы оправдать свою критику. Это часто происходит в католических и православных богословских дебатах, например, в том, как некоторые томисты обращаются к Паламе или как некоторые православные обращаются к filioque[3]. дебаты сосредотачиваются на внешнем, а поскольку внешние детали различны, они никогда не сойдутся.
Богословские дебаты сложны. Его нельзя превращать в бесплатное для всех. Не все, что можно утверждать или подразумевать, является правдой. Но проблема в том, что мы должны выяснить предполагаемый смысл любого данного утверждения. Иногда это легко, поскольку автор дает нам достаточно материала, чтобы мы могли понять, что он имеет в виду под конкретными словами. Часто это не так, и все гораздо сложнее, например, когда мы пытаемся понять, что имел в виду автор, когда у нас есть только несколько фрагментов его работ, которые можно использовать для установления такого понимания. Когда у нас есть лишь ограниченная способность интерпретировать конкретный текст или богословскую традицию, нам важно отметить возможный диапазон интерпретаций, которые могут быть получены из него, указать, какие из них приемлемы, а какие нет. Затем, если у нас нет доказательств обратного, мы должны предположить, что одно из приемлемых значений - это то, что имелось в виду, чтобы дать как можно более благосклонное толкование, чтобы поддержать любовь и уважение, которые мы как христиане должны испытывать к каждому. Другой.
[1] См., например, св. Кирилл Александрийский, «Письмо 39» в Письмах 1-50. Транс. Джон И. МакЭнерни (Вашингтон, округ Колумбия: CUA Press, 1987), 147-52.
[2] Вот почему в современных экуменических выступлениях, где мы обнаруживаем, что эта проблема была признана, христиане, наконец, могут выйти за рамки вопроса выбора слов и посмотреть на значение, подразумеваемое обеими сторонами, и найти общее единство веры, допускающее официальные заявления, указывающие на их общее христологическое понимание.
[3] Например, мы находим многих томистов, ложно утверждающих, что Палама отрицал божественную простоту. Если бы они изучали Паламу, то узнали бы, что она не только не отрицает божественной простоты, но и является основой его богословской системы. См., например, Маркус Плестед, «Св. Григорий Палама о Божественной простоте» в Modern Theology vol. 35 нет. 3 (2019): 508-521 и Марк К. Спенсер, «Гибкость божественной простоты: Фома Аквинский, Скот и Палама» в International Philosophical Quarterly vol.57 нет. 2 (2017): 123-139.