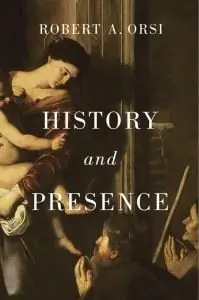«После того, как он пообедал со своим Богом в воскресенье, / Вы должны поклоняться его дерьму в понедельник». Так французский гугенотский полемический поэт Агриппа д’Обинье высмеивал католическую Евхаристию. Ранние протестанты испытывали и изображали ужас при мысли о том, что католики верят, что они жевали, глотали и переваривали само тело Иисуса Христа. Они были каннибалами («папская антропофагия», согласно Джону Мильтону). Они были théochèzes, или «отверженными богами».[1]
Высмеивать отсутствие было немного сложнее, чем присутствие, но католики ответили тем же. Христос установил таинство, а не символ. Нет реального присутствия, нет благодати, нет спасения. Или, как объяснял группе антикатолических головорезов одноименный герой католической новеллы 1933 года Тони, «протестанты говорят… что они там никто.«Для многих католиков протестантское отрицание пресуществления было равносильно отрицанию Бога.
Историк Роберт Орси начинает «Историю и присутствие» с евхаристических дебатов шестнадцатого века. Он заканчивается размышлением о трагедии сексуального насилия со стороны духовенства. По пути Орси погружает своих читателей в череду «богатых событий»: чудесные исцеления, видения божественного, встречи с демоническим и бесчисленные моменты преданности.
Анализируя эти «многочисленные события», Орси просит историков и других религиоведов пересмотреть предпосылки или методологии, которыми они руководствуются в своих исследованиях и работах. Он сетует на то, что «современные теории религии были написаны поверх описаний реально существующих богов, погрузив их в теоретический подземный мир, в то время как на поверхности боги возродились как символы, знаки, метафоры, функции и абстракции». Другими словами, протестантские и пост-просветительские ученые сделали с нарративами религиозного опыта то же, что Цвингли сделал с Евхаристией.
Напротив, Орси утверждает, что изучение религии «должно быть изучением того, что люди делают по отношению к реально присутствующим богам, за и против них… и что реально присутствующие боги делают по отношению, за и против богов». люди». Под «богами» Орси подразумевает «всех особых сверхчеловеческих существ», с которыми люди связаны. В своем изучении того, что он называет «многочисленными событиями» сверхъестественного присутствия, ученые должны изучать прошлое и настоящее с «богами как собеседниками и провокаторами, как агентами как данного, так и невозможного, как злобными духами, как предвестниками избытка». как те, кто хранит воспоминания, которые забывают отдельные люди и целые общества, как приносящие помощь и боль». Протестант, католик или никто из вышеперечисленных, немногие ученые пишут о религии в бодрящей манере Орси.
Конечно, вместо того, чтобы утверждать, что Бог отсутствует в мире, многие протестанты отрицали присутствие Бога и других священных существ в объектах. Например, Христос был с людьми в духе, но его воскресшее тело оставалось строго на небе. Орси не предлагает подробного анализа того, как протестанты - несмотря на их богословие - воспринимали божественное в объектах, начиная от молитвенных платков Орала Робертса и заканчивая самой Библией. В любом случае он прав в том, что после Реформации «католицизм стал образцом религии реального присутствия», пугалом «суеверий» среди протестантов. Для католиков Христос не попал в ловушку на небесах. Он присутствовал в освященной Гостии, в которой продолжалась его телесная жертва. Более того, божественное внутренне присутствовало в мире, в мощах мучеников, в крови и слезах, сочащихся из статуй, даже в печатных предметах с изображениями святых.
Протестантские и католические власти считали, что божественное присутствие трудно контролировать. «Присутствие навсегда выходит за установленные для него границы», - замечает Орси. Со временем протестанты вернули религиозные образы в свои церкви и украсили их крестами. Между тем, в то время как католические реформаторы переняли давнюю протестантскую критику «суеверия» и попытки очистить церкви и святыни от материальных излишеств, те, кто был предан святым, Богородице и Святому Сердцу Иисуса, часто продолжали практику, которая заставляла иерархов съеживаться..
Орси хочет научить ученых не подражать этому съеживанию. Он подводит нас к постели аспиранта с диагнозом неизлечимая форма лейкемии. Почему этот студент решил совершить паломничество в Чимайо до того, как ему сделали пересадку костного мозга? В то время святыня была полна заметок, фотографий, а паломники выбрасывали трости, костыли и очки как свидетельство своего исцеления. С тех пор духовенство продезинфицировало комнату, сообщает Orsi. Студент пытался пронести пакет Ziploc с грязью Chimayo в отделение трансплантации костного мозга. Врачи отказали, но без него она не пойдет. В конце концов больница пошла на компромисс, запечатав грязь в дополнительный пластиковый пакет. Для этого студента, как и для других паломников в Чимайо, грязь была «физической реальностью, когда боги стали ближе». Цвингли усмотрел бы в таком поведении идолопоклонство. Ученые девятнадцатого века могли считать сумку фетишем, католическим суеверием. Однако для студента и для Орси сумка не просто символизировала божественное присутствие. Мешок с грязью был «настоящим присутствием сверхъестественного».
Через действительно сверхъестественное, люди также испытывают страх и агонию. Материал также сделал зло реальным. Он присутствовал у тех католических священников, которые изнасиловали детей. Как объясняет Орси, «оскорбление со стороны священника означало оскорбление на одной степени отделения от Бога». Родители учили своих детей слушаться священников и часто защищали священников от дискомфорта или обвинений собственных детей, а священники-хищники в полной мере пользовались своей священной властью. Один священник сказал своей жертве, что получение его спермы - это «еще один способ получить Святое Причастие». Многие жертвы держались подальше от мессы, что усиливало их чувство божественного отсутствия и внутренних страданий. Некоторые нашли Божье присутствие в компании других выживших.
Многие ученые умеют превращать религию в нечто неузнаваемое для тех, кто с ней столкнулся. Таким образом, провидцы Марии становятся «полностью сформированными и ожидаемыми в рамках дискурсов, технологий и превратностей власти в социальных мирах современной Франции и глобального католицизма.«Вместо того, чтобы выносить за скобки окончательные утверждения, такие эпистемологии предполагают, что люди не испытали того, о чем они говорят.
Против предложения Орси легко возразить. В задачу историков, верящих или нет, не входит выяснять, существуют ли сверхъестественные существа, и если да, то как они присутствуют или отсутствуют в мире. По сути, ученые не имеют непосредственного доступа к религиозному опыту других, а имеют доступ только к нарративам, которые эти люди рассказывают или пишут. Мы как минимум в одном шаге от богов, чье присутствие Орси хочет, чтобы мы признали.
Как, однако, можно достоверно сообщать и анализировать эти нарративы? В манере, схожей с подходом Орси, Дэвид Хаберман в своей хронике паломничества Бан-Ятра в северной Индии утверждает, что объективный «историк религии… выносит за скобки суждения и принимает все реальности как потенциально достоверные».. Он вплетает в свои истории реальное присутствие божественного и демонического. Это присутствие ощутимо в History and Presence.
Возможно, это подходящая отправная точка, но иногда некоторая доля скептицизма кажется неизбежной. Следует ли принимать рассказ Джозефа Смита о золотых листах? Можно ли усомниться в доверчивости тех, кто покупает молитвенные одежды или доступ к местам паломничества? Орси отдает предпочтение опыту сверхъестественного над таким скептицизмом. Большинство историков держат более взвешенную дистанцию от своих тем, что держит сверхъестественное на расстоянии вытянутой руки.
Подразумеваемая презумпция божественного отсутствия, тем не менее, также сопряжена с большими рисками. Это препятствует нашей способности понимать людей в прошлом и настоящем. Если мы не признаем, что боги присутствуют в большей части нашего мира, заключает Орси, мы «упустим эмпирическую реальность религии в современных делах и… не сможем понять большую часть человеческой жизни».
Опираясь на аргумент Орси, можно задаться вопросом, что если религия не является чем-то «sui generis», если религия является лишь «родовым понятием второго порядка» (как Джонатан З. Смит довольно убедительно доказывал) [3], если религия просто символизирует образцы власти, иерархии и язык, то игра однажды может быть проиграна. Если богов не будет, возможно, нам больше не будут нужны «ученые-религиоведы». Пожуйте это некоторое время.
Фланнери О’Коннор однажды пошла на званый обед, устроенный бывшей католической писательницей Мэри Маккарти. Маккарти поделилась, что вопреки тому, чему ее учили в детстве, теперь она воспринимала хозяина как символ. -- Что ж, -- возразил О'Коннор, -- если это символ, то и черт с ним. Роберт Орси довольно вежливо говорит то же самое в отношении теорий религии, которые убирают непредсказуемость, случайность и чрезмерность божественного из человеческой истории.
Примечание: для тех, кто заинтересован в дальнейшем обсуждении истории и присутствия Орси, в The Juvenile Instructor проходит потрясающая серия. Смотрите первую часть здесь.
[1] Сьюзан Джастер, Священное насилие в ранней Америке (Филадельфия: University of Pennsylvania Press, 2016), 25-26.
[2] Дэвид Л. Хаберман, Путешествие через двенадцать лесов: встреча с Кришной (Нью-Йорк: Oxford University Press, 1994), 169.
[3] Джонатан З. Смит, «Религия, религии, религия», в книге Марка С. Тейлора, изд., Критические термины для религиоведения (Чикаго: University of Chicago Press, 1998), 281.