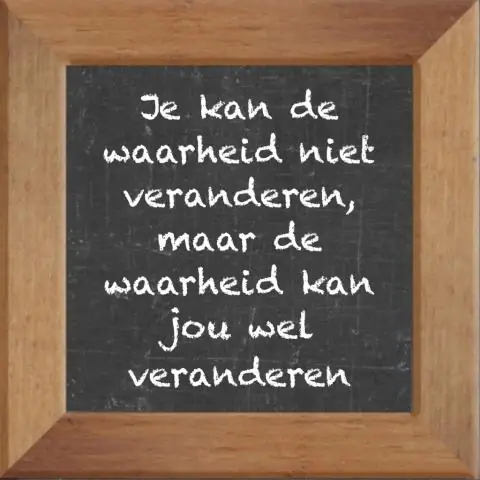В своем обращении к Папской академии наук в 1996 году Папа св. Иоанн Павел II вновь заявил о необходимости для католицизма принять то, что открывает наука, и не бояться этого. Эволюция, которую ученые считают не просто гипотезой, а истиной, не противоречит тому, во что верят католики. Вот почему он сказал: «Мы знаем, что истина не противоречит истине». [1] Принять истину - значит принять истину везде, где ее можно найти. Истина не противоречит истине. Это не означает, что наша интерпретация истины верна. Мы не должны путать интерпретации истины с самой истиной. То, как некоторые люди интерпретируют христианскую веру (например, фундаменталисты), или то, как некоторые люди интерпретируют науки (например, сциентизм), отделяет истину от истины посредством плохой интерпретации. Когда какая-то истина кажется противоречащей другой истине, возникает необходимость вернуться к истине, чтобы увидеть, где наши интерпретации дают сбои. Часто нужно видеть, как примиряются различные элементы истины, показывая нам другую, еще большую истину; иногда, в силу особенностей человеческого интеллекта, мы не можем найти решение, кроме признания парадоксальности истины.
Иоанн Павел II не создавал понятия, что «истина не противоречит истине». На самом деле он намекал на папу Льва XIII, который, говоря о толковании Писания и обнаруженных в нем очевидных противоречиях, говорил то же самое, то есть истина не противоречит истине:
Даже если трудность все-таки не устранена и кажется, что несоответствие осталось, состязание нельзя прекращать; истина не может противоречить истине, и мы можем быть уверены, что допущена некоторая ошибка либо в толковании священных слов, либо в самой полемической дискуссии; и если такая ошибка не может быть обнаружена, мы должны временно отложить суждение.[2]
Папа Лев XIII подтвердил в своем обсуждении Писания, что могут быть проблемы, связанные с попыткой примирить элементы Писания, которые кажутся противоречащими друг другу. Иногда единственное, что мы можем сделать, это воздержаться от нашего суждения и позволить истинам, представленным в Писании, оставаться такими, какие они есть, каким бы парадоксальным это ни казалось. Это именно тот принцип, который Ганс Урс фон Бальтазар предлагает рассматривать в библейских дискуссиях о вечной погибели и всеобщем спасении; мы должны признать, что в Писании есть изображения обоих; то, как мы примирим их, остается за пределами наших возможностей, и поэтому мы должны воздержаться от суждений, позволив Богу открыть нам результат в эсхатоне.
В то время как Иоанн Павел II применял этот принцип по отношению к науке и религии, а Лев XIII применял этот принцип по отношению к тому, что содержится в самом Писании, важно признать, что этот принцип исходил из внутреннего исламского дебаты. Был задан вопрос, могут ли и должны ли мусульмане признавать истины, обнаруженные в доисламских философах, или следует отвергнуть таких философов и то, чему они учили. Аверроэс, отвечая тем, кто критиковал философов, объяснил, что философы демонстрировали и учили использованию разума, который, согласно Корану, мусульмане должны использовать в своем собственном ответе на веру. Таким образом, даже если философы допустили ошибки, которые можно и нужно исправить, они предоставили ресурсы, необходимые для рационального изучения исламской веры и действия в соответствии с ожиданиями Корана. И поскольку философы делали это хорошо, их нужно было уважать и изучать. Таким образом, когда философы ухватились за истину, мусульмане не должны бояться принять ее, потому что такие истины не будут противоречить истине Ислама:
Поскольку этот Закон истинен и призывает к размышлению, ведущему к познанию истины, мы, мусульманская община, твердо знаем, что демонстративное размышление не ведет к расхождению с тем, что изложено в Законе. Ибо истина не противоречит истине; скорее, оно согласуется с ним и свидетельствует о нем.[3]
Так св. Иоанн Павел II и Лев XIII приняли истину, пришедшую к ним из нехристианского источника. Они следовали традиции, которая служила для защиты использования философии в исламе, традиции, которая затем была перенесена в католическую среду Иоанном Павлом II, чтобы предложить те же доводы, что и у Аверроэса, но на этот раз в отношении того, что современная наука узнал о мире. Делая это, Иоанн Павел II не только подтверждал католическое отношение к наукам, но и к истинам, найденным в трудах нехристианских мыслителей, принимая классическую защиту такого гуманистического предприятия и используя его для борьбы с одним из Основные области знаний, доступные нам сегодня. Но это также означает, что это утверждение может и должно использоваться теми, кто ведет межрелигиозный диалог, точно так же, как оно с готовностью принимается и используется теми, кто занимается сравнительным богословием. Ибо, как указал II Ватиканский Собор, христиане могут и должны принимать все хорошее и истинное в других религиозных традициях:
Церковь поэтому увещевает своих сыновей, чтобы через диалог и сотрудничество с последователями других религий, осуществляемые с благоразумием и любовью и свидетельствовавшие о христианской вере и жизни, они признавали, сохраняли и продвигали добро вещи, духовные и нравственные, а также социально-культурные ценности, найденные среди этих мужчин. [4]
Это потому что:
Католическая церковь не отвергает ничего истинного и святого в этих религиях. Она с искренним благоговением относится к тем образам поведения и жизни, к тем заповедям и учениям, которые, хотя и отличаются во многом от тех, которых она придерживается и излагает, тем не менее часто отражают луч той Истины, которая просвещает всех людей. Действительно, она провозглашает и всегда должна провозглашать Христа «путь и истину и жизнь» (Ин. 14:6), в ком люди могут найти полноту религиозной жизни, в ком Бог примирил с Собою все.[5]
Для людей, заинтересованных в истине, важно быть готовыми исследовать ее везде, где ее можно найти, действительно, чтобы собрать воедино различные элементы истины и посмотреть, как они могут быть связаны друг с другом. Это также показывает кафолическую природу истины, ибо истина универсальна. Вот почему первые христиане признавали саму церковь вселенской (соборной). Ибо церковь есть столп и утверждение истины. Благодаря его учениям все частные истины могут быть объединены. Те, кто подрывают этот принцип, те, кто отвергает надлежащий религиозный гуманизм, отвергая какую-то часть истины, рискуют не только стать ересью, но и теми последствиями, которые вытекают из несоблюдения целостной истины. Ибо там, где есть серьезная ошибка, где есть недопустимое невежество, следуют серьезные последствия.
[1] «Nous savons en effet que la vérité ne peut pas contredire la verité», Папа св. Иоанн Павел II, «Послание к участникам пленарного заседания Папской академии наук» (22 октября, 1996). Перевод с французского. ¶2. (На сайте Ватикана нет английского перевода. Но вы можете прочитать его здесь).
[2] Папа Лев XIII, Providentissimus Deus. Ватиканский перевод. ¶23.
[3] Аверроэс, «Решающий трактат» в «Решающем трактате и посвящающем послании». Транс. Чарльз Э. Баттерворт (Прово, Юта: Brigham Young University Press, 2001), 8-9.
[4] Nostra Aetate. Ватиканский перевод. ¶2.
[5] Nostra Aetate, ¶2.