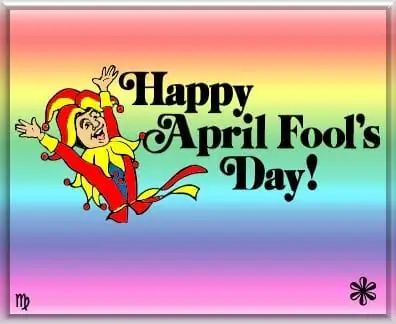Я знаю, что сейчас середина Страстной недели. Я знаю, что сегодня Великий Четверг, а завтра Страстная Пятница. Но по календарю сегодня еще и День смеха. Итак, давайте отступим, немного успокоимся и зададим очень важный вопрос. Иисус когда-нибудь смеялся?
Одно из многих приятных событий в конце каждого семестра - время от времени получать благодарственные письма от студентов. Часто они исходят от тихих студентов, которые мало говорили в классе, но красноречиво упоминают момент или текст из семестра, который имел значение или который запомнился им. Книжные полки в кабинете моего философского факультета заставлены такими карточками и заметками, приятными напоминаниями о том, что время от времени что-то работает лучше, чем ожидалось.
Пару лет назад я получил такую записку от студента междисциплинарного класса с отличием, который я преподаю с двумя коллегами. Студентка написала, что наш курс был «лучшим курсом в колледже, который я когда-либо посещала». Это суждение немного смягчалось тем фактом, что она была первокурсницей и в то время прошла только шесть курсов в колледже за свою карьеру в высшем образовании. Однако позже в своей записке она поблагодарила нас троих за наше чувство юмора, написав, что «я никогда не смеялась так сильно и так часто ни на одном уроке, который я когда-либо посещала».
![Симона Вейл [1] Симона Вейл [1]](https://cdn.psychologyhub.ru/images-13/011/image-31095-1-j.webp)
Этот я буду лелеять в течение долгого времени, потому что моя педагогическая философия в течение многих лет формировалась под наблюдением Симоны Вейль о том, что «Разум может управляться только желанием. Чтобы было желание, должны быть удовольствие и радость от работы. Разум только растет и приносит плоды в радости. Радость обучения так же необходима в учебе, как дыхание в беге». По крайней мере, для этого ученика миссия выполнена.
Когда дело доходит до обучения, смех - это серьезно. Хотя они часто не занимают места в первом ряду в пантеоне великих философов, многие из моих любимых философов - Эпиктет, Монтень, Юм, Ницше и другие - зависят от различных форм юмора, формирующих их мысли. Непочтительность - особенно действенный философский инструмент. Логический аргумент, демонстрирующий, что человеческие способности не соответствуют человеческим притязаниям, не так эффективен, как монтеньевское «даже на самом высоком троне в мире мы все равно сидим на собственной заднице». Ницше, возможно, величайший мастер непочтительности в философской западной традиции, подрывает приверженность логической точности словами: «Достаточно трудно помнить мои мнения, не помня также и причин, по которым я их придерживаюсь!» и насмехается над благочестием: «Я не могу поверить в Бога, который хочет, чтобы его все время хвалили. Как я сказал одному из младших преподавателей после наблюдения за искусным, но лишенным юмора выступлением на его уроке логики, «философия серьезна, но не смертельно серьезна».
В мастерском произведении Умберто Эко «Имя розы» смех играет неожиданно центральную роль. Действие происходит в бенедиктинском монастыре четырнадцатого века. Эко сплетает убийства, ересь, литургию, средневековую медицину, сексуальные отклонения, инквизицию, богатство перед лицом крайней нищеты и политические интриги между императором и двумя конкурирующими папами в запоминающийся вымышленный гобелен. Центральной нитью этого гобелена является вопрос, который вызывает частые и страстные споры: смеялся ли когда-нибудь Христос? Этот, казалось бы, случайный вопрос становится центром интенсивных дебатов, которые в конечном итоге затрагивают гораздо больше, чем академическое любопытство. Хорхе, почтенный и слепой бывший библиотекарь, настаивает на том, что Христос никогда не смеялся. Мало того, что нет никаких записей о том, что подобное происходило, но есть также веские богословские причины для отказа в смехе над Иисусом.«Смех разжигает сомнения», - утверждает Хорхе, а сомнения подрывают те вещи, в которых мы должны быть уверены. Те, кто сомневается, должны обратиться к соответствующему органу - священнику, настоятелю, тексту - для устранения неопределенности.
![4349348690_947b4e3701[1] 4349348690_947b4e3701[1]](https://cdn.psychologyhub.ru/images-13/011/image-31095-2-j.webp)
Смех высмеивает самое серьезное и самое несомненное.
Вильгельм Баскервильский, заезжий монах-францисканец, который становится средневековым Шерлоком Холмсом, стремящимся разгадать тайну нескольких убийств в аббатстве, возражает, что в священных текстах нет ничего, указывающего на то, что Иисус несмеяться, а также указывает на то, что смех является частью человеческой природы (а ведь Иисус был человеком). Кроме того, Уильям утверждает, что «иногда сомневаться правильно», учитывая, что сомнение и неуверенность являются частью естественного процесса рационального мышления человека. «Наш разум был создан Богом, и все, что нравится нашему разуму, должно нравиться и божественному разуму. Уильям не склонен к веселью, но на протяжении всего романа остро видит иронию и несоответствие, часто показывая, что истинное стремление к истине часто приводит к неуверенности и непочтительности. Авантюрность и открытость процесса гораздо поучительнее любой уверенности, которая гипотетически лежит в конце пути.
По мере того, как роман приближается к своему драматическому завершению, а число мертвых монахов увеличивается, раскрывается глубина приверженности Хорхе уверенности и неприятию демонов-близнецов смеха и сомнения. В течение десятилетий Хорхе был самозваным сокрытием единственной существующей копии утерянного трактата Аристотеля о комедии, в котором Аристотель показывает, что ценность комедии состоит в том, чтобы заставить нас смеяться над властью, претензией на величие и человеческими устремлениями.. Смех позволяет нам, по крайней мере временно, отказаться от страха. По оценке Хорхе, смех - враг авторитета, как светского, так и духовного, и его нужно подавить любой ценой. Соответственно, он убил тех в аббатстве, кого он
![Хорхе_&_Уильям[1] Хорхе_&_Уильям[1]](https://cdn.psychologyhub.ru/images-13/011/image-31095-3-j.webp)
подозревается в том, что знает об этом опасном тексте и страстно желает его прочесть.
В кульминационной конфронтации между Хорхе и Уильямом в развязке романа, когда становятся очевидными глубины безумной приверженности Хорхе защите достоверности и правды, Уильям раскрывает истинную природу одержимости Хорхе. «Ты Дьявол. Дьявол - не Князь Материи; Дьявол - это высокомерие духа, вера без улыбки, истина, которую никогда не одолевают сомнения. Дьявол угрюм, потому что знает, куда идет, и, двигаясь, всегда возвращается туда, откуда пришел». Хорхе сформировал свою жизнь и действия в соответствии со своим убеждением в том, что истину нужно защищать, что ее нужно защищать от всех угроз - в его убеждении, что истина принадлежит ему, есть сильный элемент страха. Но в одном он абсолютно прав - смех и сомнение - прямая угроза всему, что он считает святым. Смех может поставить на колени претензии на уверенность и истину гораздо эффективнее, чем аргументация. Вместо того, чтобы столкнуться с таким миром, Хорхе уничтожает книгу, себя и, в конечном счете, библиотеку и весь монастырь.
На последних страницах «Имени розы» среди дымящихся руин и пепла Уильям размышляет со своим молодым учеником Адсо о том, что они видели и испытали. Вильгельм называет мертвого Хорхе «Антихристом», но Адсо не понимает этого имени. «Антихрист, - объясняет Вильгельм, - может родиться от самого благочестия, от чрезмерной любви к Богу или к истине, как еретик рождается от святого, а одержимый - от провидца. Бойтесь тех, кто готов умереть за правду, ибо, как правило, они заставляют многих других умирать вместе с ними». Что можно извлечь из трагических и апокалиптических событий в аббатстве? Предположение Уильяма следует принять близко к сердцу всем искателям истины и любителям людей. «Может быть, миссия тех, кто любит человечество, состоит в том, чтобы смешить людей над истиной, смешить истину, потому что единственная истина заключается в том, чтобы научиться освобождаться от безумной страсти к истине.”

Энн Ламотт, чьи работы вызывают у меня смех больше, чем у любого другого автора, которого я могу вспомнить, определяет смех как «газированную святость». Смех не только исключительно человеческий, это один из многих признаков божественной любви, которую каждый из нас ежедневно несет в мир. Иисус смеялся? Это зависит от того, был он человеком или нет. Поскольку воплощение, человечность, наполненная божественностью, лежит в основе христианской веры, смех является основным выражением Бога в нас. «Просветись!» это призыв к святости.