В «Трех военных историях» Дэвид Мамет исследует искупление и прощение в контексте конфликта. В «Красном крыле», приведенном здесь, офицер морской секретной службы 19-го века рассказывает о своих собственных трансформациях во время службы и заключения.
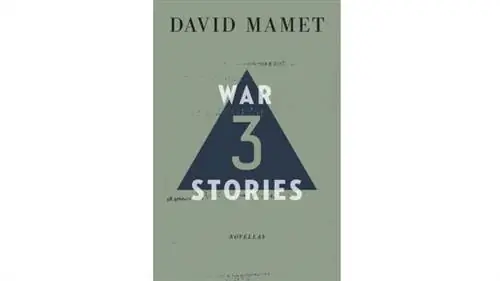
В «Трех военных историях» Дэвид Мамет исследует искупление и прощение в контексте конфликта. В приведенном здесь отрывке из «Красного крыла» морской офицер секретной службы 19 века рассказывает о своих трансформациях во время службы и заключения.
Преклонный возраст, сопровождаемый неплохим здоровьем, обычно считается благословением. Я не знаю, так ли это на самом деле, и подозреваю, что такое заявление делается исключительно теми, кто не знает истинной природы возраста. Ибо хоть возраст и награждает, большинству и увеличенным временем, и способностью к размышлениям, такой досуг позволяет или наводит на вопрос «С какой целью?»
Молодость, говорят, тратится на молодых, но не тратится зря. Им наслаждаются во всем его ужасе, вожделении и возбуждении. То, что оно заметно, что оно содержит периоды страха, неуверенности, одиночества и неуверенности в себе, означает только то, что это время жизни; возраст, и тот век, обладающий столь хваленым временем для размышлений, по своей сути свободен от них. Такова сумма этой ценной философской склонности. То, что такое расположение может быть использовано в философии, а не в ярости, возможно, является не приглашением общества поделиться мудростью, а скорее демонстрацией не вызывающей возражений отставки при отсутствии какой-либо другой полезности.
Я когда-то мог расколоть игральную карту, повернутую ребром, пистолетным шариком с двадцати пяти ярдов. Какая заслуга в этом воспоминании? Или что женщины когда-то находили меня привлекательным. Они ищут защиты, а значит, всегда вооруженного человека. Я зарабатывал на писательстве. И поддержали этим многих людей. Я считаю большим достижением и подарком то, что мне понравилось это начинание. Огонь юности, давно себя именовавший закутанным, на самом деле давно остыл, и ушла жажда новых знакомств, не говоря уже о приключениях, будь то во плоти или в тех фантазиях, транскрипцией которых я себя поддерживал. в течение этих многих лет. Но, несмотря на этот унылый стоицизм, я нахожу и с радостью нахожу в себе то, что я должен описать как энтузиазм установить рекорд, чтобы, как мы говорим на флоте, «упорядочить журнал».
Этот процесс, здесь и там, может быть использован не только для предоставления информации, утраченной в связи с необходимостью действия или ставшей неразборчивой в бою или на Море, но и для исправления счета, бессознательно или нет, в свете главенствующей концепции.
Я надеюсь, что это не может быть признано исключительно самолюбием автора или желанием одобрения. Я не думаю, что дело обстоит именно так и что он потратил время и терпение читателя на то, чтобы закончить это признание, которое, в конечном счете, есть не что иное, как самовозвеличивание или хвастовство. Я надеюсь, что эти исправления, написанные прежде всего для успокоения совести, могут, как самостоятельное сочинение, иметь способность развлекать или музизировать.
Они спросили меня, хочу ли я поехать в море, и я сказал: «Нет». Ибо я не видел в этом никакой выгоды. Но потом я ушел в море. Я полагаю, что они были сбиты с толку отсутствием у меня авантюризма или приняли это за недостаток духа. И, возможно, они не ошиблись. Ибо, хотя я и сделал некоторые замечательные вещи, мой большой интерес, как тогда, так и теперь, состоял прежде всего в наблюдении, под которым, как я полагаю, я должен подразумевать рассмотрение. Таким образом, мои путешествия были, если можно так сказать, стимулом для моих размышлений, что может показаться вам странным, в свете того, что мне выпало на долю.
Но так как мои подвиги были связаны почти исключительно с сохранением жизни, а так как жизнь была моей, то я совершал их как само собой разумеющееся, как и вы; в то время как продукты моего воображения всегда казались мне более истинным приключением.
Ибо пираты, в конце концов, всего лишь преступники; а прожорливая акула, если кто-то является ее желанной жертвой, просто крупный приходской бык.
Мои друзья, по моему возвращению, я знаю, сочли или притворились, что находят такое отношение нелепым, как и различные критики, которые, столкнувшись с реальностью автора, которому они присудили эту высшую похвалу, признание в том, что его позабавили (в странном случае «очаровали»), вынесли или даже исполнили безмолвный вердикт о том, что в моем присутствии было скучно.
Но какая разница, спросил я их, как спрашиваю и вас, если инцидент с китом был правдой? Сделает ли такая правда главу более увлекательной? Я не вижу, как. Значит, мое присутствие или иллюзия возможности проверки сделали мое присутствие для них обременительным.
Ибо они просили. И почему я должен был лгать? Сначала, при получении книги, я считал своим правом говорить правду. Но какой читатель или рецензент, как я обнаружил, предпочтет пеструю или неубедительную правду «хорошо составленному рассказу»? Ни один из них. И если бы «правда» была сама по себе неопровержимой, что побудило бы меня написать книгу?
Любопытно, что несколько причудливых или сверхъестественных случаев, о которых я рассказывал по мере их возникновения, были отмечены более чем одним рецензентом как фантазии и «пятно на правдоподобии» постановки.
Поразмыслив, я согласен. Они есть. И, может быть, я включил их из извращенного желания уверить себя, что я не мошенник in toto, что я и страдал, и путешествовал, и что, хотя я теперь и питаюсь пером, я когда-то, чтобы заработать мой хлеб, матрос.
Я не буду останавливаться ни на моем первом посадке на корабль, ни на испытаниях и посвящениях, уместных и просто обычных, которые выпадают на долю любого первого путешественника. Инцидент с «Крэндаллом», конечно же, трактуется в романе. Это не было ни его именем, ни его поведением; он также не может быть идентифицирован по тем характеристикам, которые я присвоил ему с явной целью сокрытия его личности.
В жизни он был, и я умышленно использую это слово, злом; и он был достаточно умен, чтобы не только предвидеть различные плохие последствия своего господства, но и постоянно работать над их улучшением.
На самом деле мне не довелось видеть его среди потерпевших кораблекрушение, ибо он умер до крушения и не знал испытаний тех месяцев в лодке. Я также не «подбросил его», как предположил один рецензент, - термин на полубаке, означающий помочь негодяю перебраться через борт. Хотя я подробно фантазировал о его смерти после порки.
Я ругал себя тогда за свою трусость, так как лучший человек, я чувствовал, вызвал бы его и сразился с ним там, на палубе, хотя это означало смерть на рее. Но я обдумал способ труса, то есть перепрыгнуть через борт, и смягчил в своем уме убийство, схватившись за него и упав вместе с ним по воздуху и в бездну, а его глаза выражали тот ужас, который был только увеличилось его видением триумфа в моем собственном.
Полосы заживают. Я никогда не считал шрамы от порки знаком стыда или чести. В последнее время я, возможно, по восшествии на престол, обладая некоторой отстраненностью или мудростью, или пониманием, что они могут быть одним и тем же, если считать их таковыми, начал принимать это, подобно тому как на корабле воздается честь за стоицизм, с которым он может вынести свою порку, можно приобрести честь, позволив памяти исцелиться и перестав приставать к Богу для объяснения или к дьяволу для мести.
Именно Маргарет, как обычно, в характерном отступлении, тон которого может указывать в равной степени на банальность или на глубокую истину, побудила это предположение о философии. «На корабле, - спросила она, - после того, как человека избили, сочувствие, с которым встретила его команда, зависело от их мнения о том, была ли заслужена порка?»
Ибо, конечно, не было. Их, не скажу «сочувствие», ибо это слишком расхожее выражение, их вердикт основывался не на справедливости наказания, а на мужестве его получателя.
Ибо кто из нас, как я понял смысл ее, казалось бы, небрежного замечания, не страдает, по его мнению, незаслуженно? А кто скажет, чего заслуживает любой мужчина?
В ночном дежурстве каждый матрос думает о Боге.
Он может, если ему свойственно давать имена своим мыслям, обращаться к предмету своих размышлений как к Вселенной или Природе Мира; но я не отказываюсь называть предметом своих исследований Всемогущего.
Блейк в романе Симмонс сошел с ума в лодке.
Все мы видели его зарождение, и оно заключалось не в том, как выдумано, в решении съесть первого из мертвых.
Блейк сошел с ума задолго до этого. Но катарсическим событием стало не начало каннибализма (которое, в конце концов, было неизбежно), а появление облака. Облако появилось на горизонте, который от воды лежит примерно в одиннадцати милях. Блейк пошевелился в лодке, достаточно, чтобы вывести нас из оцепенения, и мы проследили за его взглядом на облако, которое в самом кратком случае можно было принять за парус. Но только новичком. А Блейк был в море с детства.
Итак, мы оглянулись на него от предмета его интереса, и увидели, и удивились выражению надежды, столь ясному, как если бы он носил плакат на эту тему на груди. И мы долго смотрели на его настойчивость, пока не увидели, как оно исчезает, и его разум не приходит к выводу, очевидному для остальных из нас при беглом взгляде. А потом он разозлился.
Почему нужно писать так, а не иначе?
Отрывок с разрешения Argo-Navis из Three War Stories: Novellas © 2013 by David Mamet.
Био автора
Дэвид Мамет - театральный и кинорежиссер, а также автор многочисленных известных пьес, книг и сценариев. Его пьеса «Гленгарри Глен Росс» получила Пулитцеровскую премию, а его сценарии к фильмам «Вердикт» и «Виляй собакой» были номинированы на премию «Оскар». Он живет в Санта-Монике, Калифорния.
Для получения дополнительной информации посетите Amazon https://www.amazon.com/Three-War-Stories-David-Mamet/dp/0786755601 и iTunes https://itunes.apple.com/ us/book/three-war-stories/
