Предполагаемое значение Песни Песней было предметом споров задолго до второго века после Рождества Христова, когда она была впервые принята в еврейский канон Священного Писания. Фокус стихотворения, откровенно эротические отношения между двумя влюбленными, поставили читателей перед затруднительным вопросом: что эротическое любовное стихотворение делает в Священных Писаниях? Любопытное расположение этой книги интерпретировалось по-разному: от явно буквалистического прочтения до чисто аллегорического прочтения и прочтения, сочетающего оба подхода.
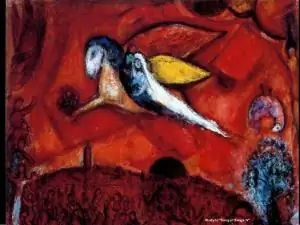
Христианские экзегеты последовали примеру своих еврейских предшественников, выбрав аллегорическое прочтение Песни. Метафора любви Бога к Израилю была адаптирована для христианской аудитории, отнеся образ невесты к Церкви, а жениха - к Христу. Эта аллегория описательно говорила о природе отношений Бога с человечеством, но также намекала на конкретные исторические события прошлого и будущего (Воплощение, Распятие, Второе пришествие и т. д.).
Буквалистические прочтения в основном отвергались из-за наличия в тексте «нелепостей». Следуя традиции Оригена, Песня была помещена в контекст «духовной структуры», которая продолжается во всей полноте Писания. Духовный смысл становится очевидным через буквальный смысл большинства книг. Другие книги, однако, содержат нелепости или аномалии, которые делают буквальный смысл книги бессмысленным.
Явно сексуальные темы, найденные в песне, были сочтены слишком аномальными, чтобы их можно было читать буквально. Таким образом, на духовный смысл указывает кажущееся буквальное значение текста, но он не содержится внутри него.
Святоотеческие и средневековые писатели полагались на неоплатоническое понимание Форм («формализм»), чтобы понять аллегорические отношения между эросом и божественной любовью. Денис Тернер проводит различие между понятиями онтологического участия и эпистемологического мимесиса, чтобы выразить метод, с помощью которого средневековые монахи разбирали аллегорию. Он ссылается на Псевдо-Дени, чья неоплатоническая теология соотносит материальное с нематериальным посредством «скользящей шкалы» сходства и несходства; он делит эту шкалу на две категории: сходные сходства и несходные сходства. Одни материальные реальности подобны своей нематериальной, или своей идеальной, форме, поскольку они имеют сходный образ, а другие - поскольку они участвуют в подобии. Большинство средневековых людей предпочло строго аллегорическое прочтение Песни, мало принимая во внимание ее буквальное значение (ее историческую или повествовательную истину), потому что они понимали человеческий эрос и супружеский союз как разделяющие тот же образ, а не участвующие в подобии, божественная любовь.«В сексуальной любви всегда есть что-то подозрительное», - утверждал Николай Лирский. Эротическая любовь слишком земна и привязана к плоти, чтобы участвовать в божественной любви. Чтобы еще больше выразить это различие, Тернер использует пример карты и самой земли, которую она изображает. Человеческая сексуальность есть образ любви Бога к человечеству (Церкви/индивидуальной душе). Сама карта онтологически не участвует в подобии земли, она лишь разделяет ее видимость (гносеологический мимесис).
Тернер также использует пример температуры в комнате и термометра, чтобы прояснить это различие. Точно так же, как температура в комнате влияет на термометр и, таким образом, отражается им, любовь Бога к человечеству породила человеческую сексуальность и отражается в ней. Но отношения только формальные. Показания термометра никоим образом не влияют на температуру в помещении. Это мнение сыграло роль в церковном богословии брака как таинства. Брак не был повсеместно признан таинством до тринадцатого века. Согласно Фоме Аквинскому, таинство - это «священный знак, который производит то, что он означает». Все таинства и означали, и эффективно содержали «великую тайну» союза между Христом и Церковью. В то время как более ранние богословы, такие как Питер Ломбард, ставили под сомнение сакраментальность брака на том основании, что он не дает благодати, Фома Аквинский утверждал, что брак действительно является таинством, поскольку он является действенным признаком благодати. Однако он сомневался в том, в какой степени супружеский акт был необходим для брака и, следовательно, в его способности производить благодать. Хотя тайна союза Христа с Церковью может быть обозначена (res significata) плотским союзом, нельзя сказать, что она совершает (sed non contenta) или участвует в этой тайне.
Тернер предполагает, что средневековые люди отвергали возможность участия супружеского союза в божественной любви, потому что они «[были] не заинтересованы в сексуальной любви как таковой. Он продолжает: «Монах увидел широкие возможности для использования эротики Песни с точки зрения своей монашеской жизни, поскольку, как «образ» его личного призвания и аскезы, она идеально соответствовала ему… Поскольку брак мог быть образ Христа и Церкви, так что это мог быть и образ его образа жизни; это был его образ жизни, а не брак, который он видел как истинное участие в таинстве, которое символизирует брак».
В то время как ранние святоотеческие и средневековые схоластические прочтения текста обращались к коллективному и, следовательно, экклезиологическому значению аллегории, средневековые монашеские чтения обращали внимание на ее индивидуальное и духовное значение. Тернер цитирует Бернара Клервосского, Дениса Картезианца и Николая Лирского среди других средневековых монахов, которые восприняли Песнь как отражение динамики между индивидуальной душой и Богом. Мистическое индивидуалистическое прочтение достигло своего апогея в «Духовной песне» Иоанна Креста, стихотворном и прозаическом тексте, вдохновленном Песней. В Песне «все есть индивидуальная душа и Бог, личный и уединенный диалог друг с другом. Исчезла любая экклезиологическая интерпретация полученных образов, даже в качестве отдельного альтернативного прочтения; ушло то чувство, что все время в истории есть излияние Святого Духа и экстатической любви к роду человеческому, к Израилю и к Церкви; исчезло, таким образом, тщательное согласование нравственной интерпретации с широким размахом экклезиологической эсхатологии… оно рухнуло в действительно индивидуализированную тропологию, в, можно сказать, персонализированный «мистицизм» в современном смысле». Эротические образы, найденные в Песне, удалены из «метафизического мира дионисийского неоплатонизма… [ему] «не хватает корней»… в стабилизирующем мировоззрении». Иоанн не использует эротические образы как простую метафору отношений души с Богом. Он «не просто думает о любви как об эросе. Он любит Бога эротически». Человеческий и божественный эрос четко не очерчены, скорее, они «перекрываются» и «накладываются» друг на друга. Тернер указывает на это одухотворение человеческих эротических образов в 33-й строфе Песней:
Не презирай меня; /ибо если раньше ты находил меня темным, /теперь поистине ты можешь смотреть на меня/поскольку ты смотрел/и оставил во мне благодать и красоту.
…что намекает на Песнь 1:5-6:
Черна я, но прекрасна, дочери Иерусалима, темна, как шатры Кидарские, как покрывала шатра Соломона. Не смотри на меня, потому что я темный, потому что я потемнел от солнца. Сыновья матери моей рассердились на меня и заставили меня ухаживать за виноградниками; мой собственный виноградник я должен был пренебречь.
Джон комментирует:
“невеста осмеливается сказать своему Возлюбленному, чтобы он больше не считал ее ничтожной и не презирал ее. Если раньше она заслуживала такого обращения из-за безобразия своих недостатков и смирения своей природы, то теперь, после того, как он впервые взглянул на нее, посредством чего он облек ее в свое изящество и облачил в свою красоту, он может легко смотреть на нее второй раз и еще много раз, заставляя эту грацию и красоту расти.”
Мистическое индивидуальное чтение привело к значительному сдвигу как в иудейской, так и в христианской экзегетических традициях и вновь открыло дверь к старым спорам об отношениях между эротическим и божественным.
