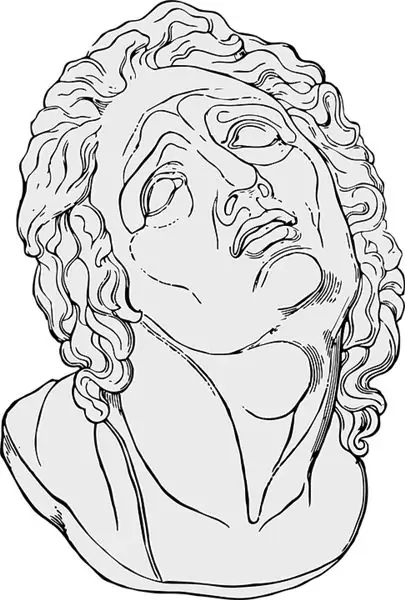Поскольку COVID-19 снова набирает обороты, а разногласия в нашей стране по поводу того, что делать с вирусом, углубляются, урок из анналов истории учит нас тому, как ранние христиане и нехристиане реагировали на эпидемии. Древнегреческий историк Фукидид дает захватывающее описание ужасной чумы, поразившей Афины и другие города-государства на ранних этапах Пелопоннесской войны (ок. 430 г. до н. э.). Затем Евсевий Кесарийский пишет о верующих и неверующих, пораженных чумой, опустошившей Александрию, Египет, во дни святого Дионисия Великого примерно в середине третьего века.
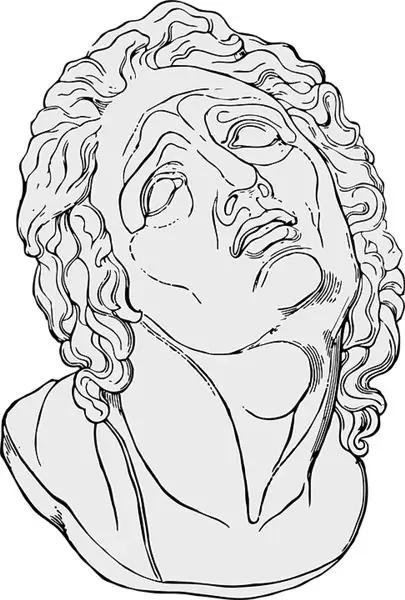
Мы можем учиться на примере человеческой реакции на эти две великие язвы, начиная с той, в которой не было христиан. Я перечисляю в общей сложности 10 описаний чумы, сделанных Фукидидом, История Пелопоннесской войны, II.47-52 (перевод Бенджамина Джоуэтта):
1. Неосведомленность о природе болезни:
«Некоторое время врачи, не зная природы болезни, пытались применять лекарства». «Относительно его вероятного происхождения или причин, которые могли или могли вызвать такое нарушение природы, каждый человек, будь то врач или нет, выскажет свое собственное мнение» [Пелопоннесская война, II.47.3; 48.3].
Хотя Фукидид говорит, что он пришел с юга Египта, распространился через Персию, а затем, в конце концов, в Афины, и может быть подобен более раннему беспорядку с Лемноса, «нет никаких сведений о том, чтобы такая чума происходила где-либо еще, или такого великого разрушения человеческой жизни» [II.48.1].
2. Среди первых пострадавших были и первые опрошенные:
«…но это было напрасно, и они сами [врачи] были в числе первых жертв, потому что чаще всего соприкасались с ним» [II.47.4].
3. Нет лекарства, даже религиозными ритуалами:
«Никакое человеческое искусство не помогло, а что касается молений в храмах, вопрошаний оракулов и тому подобного, то они были совершенно бесполезны, и, наконец, люди были одолеваемы бедствием и бросили их все» [II.47.4].
«Ни одно средство не может считаться конкретным; ибо то, что сделало добро одному, причинило вред другому. Никакая конституция сама по себе не была достаточно сильной, чтобы сопротивляться, или достаточно слабой, чтобы избежать нападений; болезнь уносила всех одинаково и бросала вызов любому способу лечения» [II.51.2-3].
4. Вину возложили на оппонентов:
«Он сначала напал на жителей Пирей, и предполагалось, что пелопоннесцы отравили цистерны…» [II.48.2].
5. Характеристики заболевания:
“Многих, бывших в совершенном здравии, все в одно мгновение и без всякой видимой причины охватил сильный жар в голове и покраснение и воспаление глаз. Внутренне горло и язык быстро наливались кровью, а дыхание становилось неестественным и зловонным. Потом последовало чихание и хрипота; вскоре расстройство, сопровождавшееся сильным кашлем, достигло грудной клетки…» [II.49:2-3].
“…затем, застегиваясь ниже, он двигал желудок и вызывал все рвотные массы желчи, которым врачи когда-либо давали названия; и они были очень огорчены. Безрезультатная рвота, вызывающая сильные конвульсии, настигала большинство больных; некоторые, как только предыдущие симптомы уменьшились, другие - только спустя много времени после этого. Тело снаружи было не так уж горячо на ощупь, но и не бледно; он был багрового цвета, склонного к красному, и покрывался пустулами и язвами. Но внутренняя лихорадка была сильной; страдальцы не могли носить на себе даже самую тонкую льняную одежду; они настаивали на том, чтобы быть нагими, и не было ничего, чего они жаждали более страстно, чем броситься в холодную воду. И многие из тех, за которыми некому было присматривать, действительно бросались в цистерны, ибо их мучила непрекращающаяся жажда, которая нисколько не утолялась, мало ли они пили или много. Они не могли спать; беспокойство, которое было невыносимо, никогда не покидало их» [II.49.3-6].
«В то время как болезнь была в самом разгаре, тело, вместо того, чтобы чахнуть, выдерживало среди этих страданий чудесным (sic) образом, и они умирали либо на седьмой, либо на девятый день, не от слабости, ибо их силы были не истощены, но от внутренней лихорадки, которая была концом большинства; или, если они выживали, то болезнь спускалась в кишечник и вызывала там сильное изъязвление; в то же время наступила сильная диарея (sic), а на более поздней стадии вызвала истощение, которое в конце концов, за немногими исключениями, унесло их» [II.49.6].
«Ибо расстройство, которое первоначально поселилось в голове, постепенно распространялось на все тело, и, если человек преодолевал самое худшее, часто схватывало конечности и оставляло свой след, поражая половые органы и пальцы. и пальцы ног; и некоторые спаслись с потерей их, некоторые с потерей глаз. Некоторые вновь, едва выздоровев, были охвачены забвением всего сущего и не знали ни себя, ни своих друзей» [II.49.7-8].
“Но каковы бы ни были случаи такой преданности, чаще о больных и умирающих заботилась сострадательная забота выздоровевших, потому что они знали течение болезни и сами были свободны от опасений.. Ибо никто никогда не подвергался нападению во второй раз или без смертельного исхода» [II.51.6]
6. Смертей было так много, что многие трупы не были захоронены:
«Общий характер болезни невозможно описать словами, и ярость, с которой она обрушивалась на каждого страдальца, была слишком велика для человеческой природы. Было одно обстоятельство, которое отличало его от обычных болезней. Птицы и звери, питающиеся человеческим мясом, хотя столько тел лежали непогребенными, либо никогда не приближались к ним, либо умирали, если дотрагивались до них» [II.50.2].
“Мертвые лежали, как умершие, один на другом, а другие, едва живые, валялись на улицах и ползали у каждого фонтана, жаждая воды. Храмы, в которых они жили, были полны трупов умерших в них…» [II.52.2].
«…Обычаи, которые до сих пор соблюдались на похоронах, повсеместно нарушались, и хоронили своих умерших каждый, как мог. Многие, не имея надлежащих приспособлений, из-за того, что в их доме уже было так много смертей, теряли всякий стыд при погребении умерших. Когда один человек поднимал погребальный костер, приходили другие и, бросая своих мертвецов первыми, поджигали его; или когда какой-нибудь другой труп уже горел, прежде чем их можно было остановить, бросали на него своих мертвецов и уходили» [II.52.3-4].
7. Неравенство в уходе за некоторыми умирающими, потому что они его не получали:
«Некоторые из страдальцев умерли от недостатка ухода, равно как и другие, которым уделялось наибольшее внимание» [II.51.1].
8. Карантин и социальная изоляция:
“Ужасной была также скорость, с которой мужчины подхватывали инфекцию; умирали, как овцы, если заботились друг о друге; и это было основной причиной смертности. Когда они боялись навещать друг друга, страдальцы умирали в одиночестве, так что многие дома опустели, потому что некому было заботиться о больных; а если отваживались, то гибли, особенно те, кто стремился к героизму… сами родственники умирающих наконец утомились и перестали даже причитать, обуреваемые безбрежностью бедствия» [II.51.3-5].
9. Отсутствие социального дистанцирования усугубило проблему:
«Стремление людей из деревни в город усугубляло страдания; и вновь прибывшие пострадали больше всего. Ибо, не имея своих домов, но обитая в разгаре летних душных шалашей, смертность среди них была ужасна, и они погибли в диком беспорядке» [II.52.1-2].
10. Без религиозных и правовых ограничений процветало беззаконие:
«Храмы, в которых они поселились, были полны трупов умерших в них; ибо сила бедствия была такова, что люди, не зная, куда обратиться, стали пренебрегать всеми законами, человеческими и божественными…» [II.52.2-3]
«Были и другие, худшие формы беззакония, принесенные чумой в Афины. Люди, которые до сих пор скрывали то, чем они наслаждались, теперь осмелели. Ибо, видя внезапную перемену, как богатые умирали в одно мгновение, а те, у кого ничего не было, тотчас же наследовали свое имущество, - они подумали, что жизнь и богатство одинаково преходящи, и решили наслаждаться, пока есть возможность, и думать только удовольствия. Кто согласился бы принести себя в жертву закону чести, если бы он не знал, доживет ли он когда-нибудь до чести? Наслаждение моментом и все, что ему способствовало, заняли место и чести, и целесообразности. Ни страх перед богами, ни перед человеческими законами не удержал преступника. Те, кто видел, как все погибают одинаково, думали, что поклонение богам или пренебрежение ими не имеет значения. За преступления против человеческого закона не следовало опасаться наказания; никто не прожил бы достаточно долго, чтобы его призвали к ответу [II.53.1-4].
_
Sуч было дело в Афинах. Мы можем сочувствовать смерти первых респондентов, незнанию болезни, гонке за лекарством, социальному дистанцированию и карантину. Мы также замечаем, что афиняне были вовлечены в обвинение других, отказ от религиозного благоговения и беззаконие (хотя у нас больше из-за отсутствия полиции, чем из-за неминуемой смерти). Теперь обратимся к чуме в Александрии, когда в городе проживало значительное количество христиан, как сообщается в «Церковной истории» Евсевия (VII.22.1-10; перевод А. К. Макгифферта), который получает информацию из письма, написанного св. Дионисий (ок. 363 г.). Вот мои 10 описаний этой чумы.
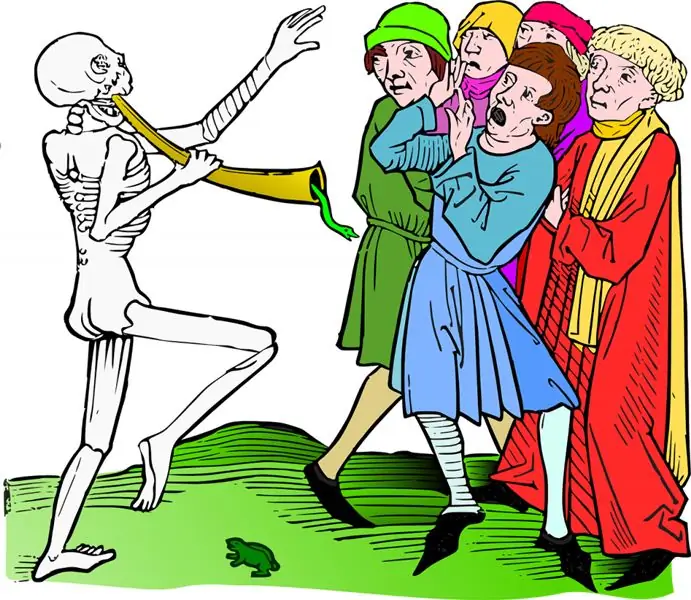
1. Великая скорбь по погибшим:
“Теперь же все в слезах, и все скорбят, и вопль раздается ежедневно по городу от множества мертвых и умирающих. Ибо, как было написано о первенцах египтян, так и ныне «поднялся великий вопль, ибо нет дома, в котором не было бы ни одного умершего» [Исх. 12:30] (VII.22.2-3).
2. Преследуемые христиане были верны празднованию:
“Ибо уже случилось много ужасных вещей. Сначала нас выгнали; и когда одни, и гонимые, и всеми умерщвляемые, и тогда мы соблюдали праздник [Пасху]. И всякое место скорби было для нас местом праздника: поле, пустыня, корабль, постоялый двор, тюрьма; а совершенные мученики праздновали веселейший из всех праздников, пируя на небесах» (VII.22.4).
3. Несмотря на войну и голод, христиане радовались:
“После сего последовали война и голод, которые мы переносили вместе с язычниками. Но мы одни переносили то, чем они нас огорчали, и в то же время мы испытывали и последствия того, что они причиняли друг другу и страдали друг от друга; и опять мы радовались миру Христову, который Он дал нам одним» (VII.22.5).
4. Чуму перенесли как александрийские христиане, так и нехристиане; нехристиан охватил ужас:
“Но после того, как и мы, и они наслаждались очень коротким сезоном отдыха, эта моровая язва напала на нас; для них страшнее всякого страха и невыносимее всякого другого бедствия; и, как сказал один из их собственных писателей, единственное, что преобладает над всякой надеждой. Но для нас это было не так, но не меньше, чем все остальное, было упражнением и испытанием. Ибо и от нас не сторонился, но на язычников нападал строже» (VII.22.6).
5. Христиане преуспели в любви и доброте:
«Большинство из братий наших были беспощадны в преизмеримой любви и братолюбии» (VII.22.7).
6. Христиане посещали больных и служили им, даже заражаясь от них, без страха:
“Они крепко держались друг друга и бесстрашно посещали больных, и служили им непрестанно, служа им во Христе. И они радостно умерли с ними, взяв на себя чужую скорбь и переняв болезни от ближних на себя, и охотно приняв на себя их боли. И многие, заботившиеся о больных и давшие силы другим, умерли сами, перенеся на себя их смерть» (VII.22.7).
“Воистину, так ушли из жизни лучшие из братьев наших, в том числе некоторые пресвитеры и диаконы и люди, имевшие высшую славу; так что эта форма смерти, благодаря великому благочестию и крепкой вере, которую она проявляла, казалось, не лишена мученичества» (VII.22.8).
7. Христиане участвовали в похоронах и службах в честь умерших:
“И взяли тело. И взяли тела святых в раскрытые руки и за пазухи свои, и закрыли глаза свои и уста свои; и понесли их на плечах своих и разложили; и они прильнули к ним и обняли их; и они приготовили их должным образом с стиркой и одеждой. И через некоторое время они сами подверглись подобному обращению, ибо оставшиеся в живых постоянно следовали за теми, кто ушел раньше них» (VII.22.8).
8. Александрийские нехристиане бросили своих больных друзей:
“А вот с язычниками все было совсем иначе. Они бросили тех, кто начал болеть, и бежали от своих самых близких друзей. И выбрасывали их на улицы, когда они были полумертвые» (VII.22.10).
9. Александрийские иноверцы умерших не хоронили:
“и оставил мертвых, как отбросы, непогребенными. Они избегали всякого участия или общения со смертью» (VII.22.10). «…выделения из трупов разлагающие…» (VII.21.8).
10. Несмотря на все предосторожности, спастись от чумы было сложно:
«…которых, однако, при всех их предосторожностях, нелегко было им избежать» (VII.22.10). «…почему этот великий город уже не содержит столько жителей, от нежных младенцев до самых преуспевающих в жизни, сколько в нем прежде было тех, кого он называл добрыми стариками» (VII.21.9).
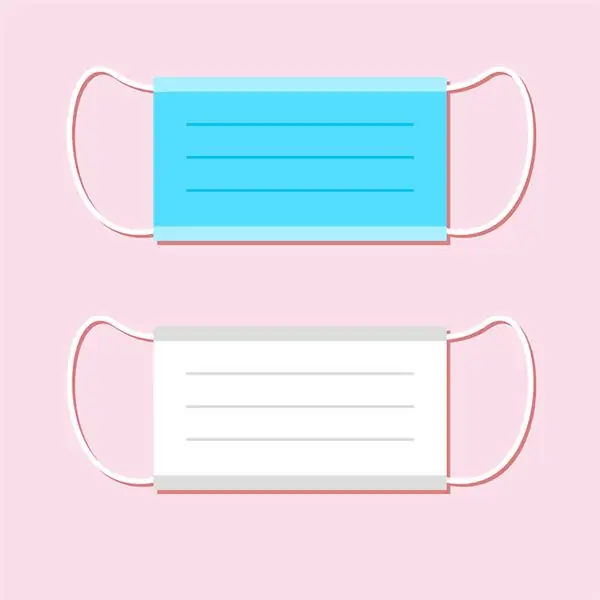
_
Ночевидно, наши авторы играют на драматических эффектах, и в этих описаниях прослеживается предвзятость: один делает акцент на страданиях, так как сам перенес болезнь, а другой пишет о письме верующего, в которое входят и неверующие. Тем не менее, во второй чуме мы видим идеальную христианскую реакцию на чуму и то, как она помогла изменить ситуацию в их сообществе.
А как насчет христиан во время коронавируса? Что книги по истории скажут о нас в ближайшие годы? Что мы делаем, чтобы изменить ситуацию в наших сообществах? Являемся ли мы примером страха, накопления, эгоизма и разногласий, отражающих худшее в нашем обществе? Или мы олицетворяем любовь, заботу, самопожертвование и храбрость?
Изображения с Pixabay.com:
- Статуя греческого бюста
- Dance Death Macabre
- Маска Corona Pandemic