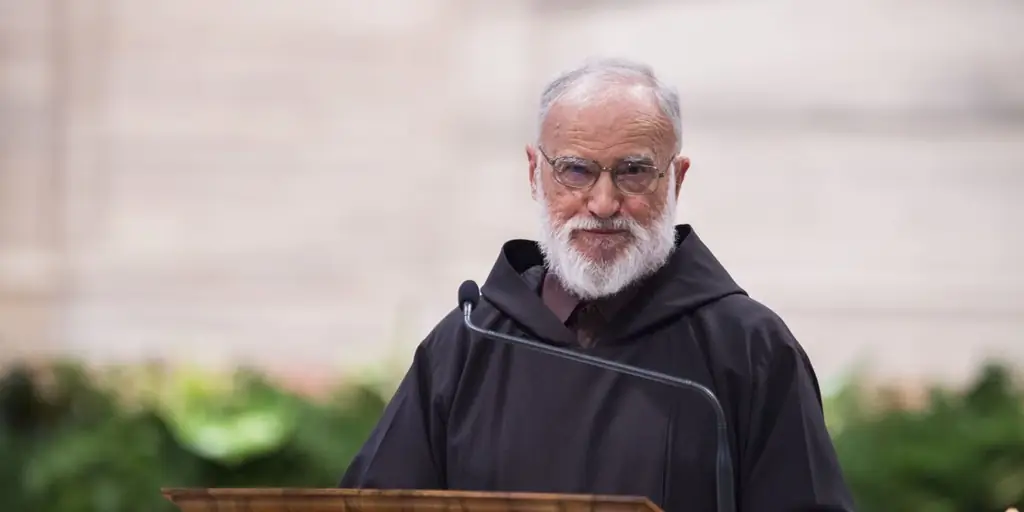4th Проповедь на Великий пост 2019: Фридрих Ницше совершенно сбился с пути, когда он определил библейского Бога как «этого жаждущего почестей Востока на небесах»
В этом году исполняется восемьсот лет со дня встречи Франциска Ассизского и султана Египта аль-Камиля в 1219 году. Я упоминаю об этом в связи с подробностями, касающимися темы наших размышлений о живом Боге. Вернувшись из путешествия на Восток в 1219 году, святой Франциск написал письмо, адресованное «правителям народа». В нем он, среди прочего, сказал
Следите за тем, чтобы Бог пользовался большим почтением среди ваших подданных; каждый вечер, по сигналу глашатая или каким-либо иным образом, следует возносить хвалу и благодарение Господу Богу вседержителю всем народом. Если вы откажетесь позаботиться об этом, можете быть уверены, что вы будете нести за это ответ в день суда перед Иисусом Христом, вашим Господом и Богом. [1]
Принято считать, что идею этого наставления святой почерпнул из того, что он наблюдал во время своего путешествия на Восток, где он услышал вечерний призыв к молитве муэдзинов с минаретов. Это хороший пример не только диалога между различными религиями, но и взаимообогащения. В том же духе миссионер, проработавший много лет в одной африканской стране, написал следующее: «Мы призваны откликнуться на фундаментальную нужду людей, на их глубокую нужду в Боге, на их жажду Абсолюта, и научить их пути Божии, чтобы научить их молиться. Вот почему здешние мусульмане делают так много прозелитов: они сразу учат их простым способом поклоняться Богу».
Мы, христиане, имеем другое представление о Боге - Боге, Который в большей степени представляет собой бесконечную любовь, чем бесконечную силу, - но это не должно заставлять нас забывать о главном долге поклонения. На вызов самарянки, которая говорит: «Наши отцы поклонялись на этой горе; а вы говорите, что в Иерусалиме есть место, где люди должны поклоняться» (Ин. 4:20), Иисус отвечает словами, которые являются великой хартией христианского поклонения:
«Женщина, поверь мне, наступает час, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы поклоняетесь тому, чего не знаете; мы поклоняемся тому, что знаем, ибо спасение от иудеев. Но наступает час и уже настал, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких Отец ищет поклоняться Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». (Ин 4:21-24)
Новый Завет был первым, кто возвысил слово «поклонение» до достоинства, которого у него не было раньше. В Ветхом Завете поклонение не Богу иногда направляется ангелу (см. Чис. 22:31) или царю (см. 1 Цар. 24:8). В Новом Завете, наоборот, каждый раз, когда кто-то испытывает искушение поклоняться кому-то помимо Бога и личности Христа, даже если это ангел, немедленная реакция: «Вы не должны этого делать! Поклонение богу.[2] Вот что Иисус в пустыне безапелляционно напоминает искусителю, просившему поклониться ему: «Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10).
Церковь восприняла это учение и сделала богослужение главным актом культа латрии, отличного от дулии, предназначенной для святых, и от гипердулии, предназначенной для Пресвятой Богородицы. Таким образом, поклонение - это уникальный религиозный акт, который не может быть предложен никому другому во всей вселенной, даже не Мадонне, а только Богу. В этом его достоинство и его уникальная сила.
В начале поклонение (proskunesis) означало физический жест простирания себя лицом вниз перед кем-то в знак почтения и покорности. Это физическое выражение до сих пор упоминается в Евангелиях и в Откровении. В этих рассказах человек, перед которым падают ниц на земле, - это Иисус Христос, а в небесной литургии - перед закланным Агнцем или Всемогущим. Только в диалоге с самарянкой и в 1 Кор. 14:25 слово «поклонение» оказывается оторванным от своего внешнего значения и указывает на внутреннее расположение души к Богу. В этом смысле мы говорим о Святом Духе в Символе веры, что Он «поклоняется и прославляется» наравне с Отцом и Сыном.
Для обозначения внешней позы, соответствующей поклонению, мы предпочитаем жест сгибания колена, коленопреклонение. Этот жест также зарезервирован только для Бога и Христа. Мы можем стоять на коленях перед образом Пресвятой Богородицы, но мы не преклоняем колени перед ней, как перед Пресвятым Даром или перед Распятым.
Что значит «поклоняться»
Однако нас меньше интересует значение и развитие этого слова, чем знание того, в чем состоит поклонение и как мы можем его практиковать. К богослужению можно подготовиться длительным размышлением, но оно завершается ярким впечатлением, и, как всякое впечатление, оно длится недолго. Это подобно вспышке света в ночи, но это особый свет: не столько свет истины, сколько свет реальности. Это восприятие величия, величественности и красоты Бога вместе с Его добротой и Его присутствием захватывает дух. Это своего рода погружение в бездонный и безграничный океан величия Бога. Поклоняться, по выражению св. Анжелы Фолиньо, значит «вспоминать себя в единстве и [погружаться] всей душой в божественную бесконечность». [3]
Выражением поклонения, которое действеннее любых слов, является молчание. Молчание само по себе указывает на реальность, которая далеко превосходит любые слова. Это послание сильно звучит в Библии: «Да молчит пред Ним вся земля!» (Авв. 2:20) и «Молчи пред Господом Богом!» (Соф 1:7). По словам одного из отцов-пустынников, когда «чувства окутаны бесконечной тишиной и с помощью тишины угасают наши воспоминания», тогда остается только поклоняться.
Иов совершает акт поклонения, когда, оказавшись лицом к лицу со Всемогущим в конце своего испытания, он восклицает: «Вот, я ничтожен; что я вам отвечу? кладу руку на уста мои» (Иов 40:4). Именно в этом смысле стих из псалма, позднее использованный в литургии, говорит в еврейском тексте: «Тебе молчание - хвала», «Tibi Silentium laus!» (см. Пс. 65:2, масоретский текст). Поклоняться, по прекрасному выражению св. Григория Назианзина, значит возносить Богу «гимн безмолвия». [4] Как при восхождении на высокую гору мало-помалу воздух становится все более разреженным, так и по мере приближения к Богу речь должна мало-помалу становиться короче, пока в конце концов человек не станет совсем немым и не соединится или себя в тишине тому, кто невыразим. [5]
Если вы действительно хотите сказать что-то, чтобы «успокоить» ум и не дать ему блуждать по другим темам, вы должны сделать это самым коротким выражением, какое только существует: «Аминь, да. Поклонение - это фактически согласие. Это позволяет Богу быть Богом. Это говорит «да» Богу как Богу и самому себе как Божьему творению. Так Иисус определяется в Откровении, как «Аминь», олицетворенное «да» (см. Откр. 3:14), или можно непрестанно повторять с Серафимами: «Кадош, кадош, кадош», «Свят, свят, свят.”
Поклонение требует, чтобы люди кланялись и хранили молчание. Но достоин ли такой поступок человека? Не унижает ли это их, унижает их достоинство? В самом деле, действительно ли это достойно Бога? Неужели Богу нужно, чтобы его создания падали ниц перед ним на землю и молчали? Может быть, Бог похож на одного из тех восточных государей, которые изобретали для себя поклонение? Мы не можем этого отрицать: поклонение также включает в себя для человека аспект радикального самоуничижения, умаления себя, капитуляции и подчинения себя. Поклонение всегда включает аспект жертвы, приношения чего-либо. Именно поэтому оно свидетельствует, что Бог есть Бог и что ничто и никто не имеет права существовать перед Ним, кроме как по Его благодати. В поклонении мы приносим в жертву наше «я», нашу собственную славу, нашу самодостаточность. Но наша слава ложная и непостоянная, поэтому избавление от нее дает человеку свободу.
В поклонении человек «освобождает истину от плена несправедливости» (см. Рим. 1:18). Человек становится «аутентичным» в самом глубоком смысле этого слова. В поклонении человек уже ожидает возвращения всего к Богу. Человек отдает себя смыслу и потоку бытия. Подобно тому, как вода находит свое мирное течение в стекании к морю, а птица находит радость в том, что ее несет ветер, так и поклоняющийся находит мир и радость в поклонении. Таким образом, поклонение Богу является не столько долгом, обязанностью, сколько привилегией и даже потребностью. Людям нужно что-то величественное, чтобы любить и поклоняться ему! Мы созданы для этого.
Поэтому не Бог нуждается в поклонении, а люди, нуждающиеся в поклонении. В одном из предисловий к Мессе говорится: «Хотя ты и не имеешь нужды в нашей хвале, но наше благодарение само по себе является твоим даром, поскольку наша хвала ничего не прибавляет к твоему величию, но приносит нам пользу во спасение через Христа, Господа нашего.[6] Фридрих Ницше совершенно сбился с пути, когда определил библейского Бога как «этого жаждущего почестей востока на небесах». [7]
Конечно, поклонение должно совершаться свободно. Что делает поклонение достойным Бога и в то же время достойным человека, так это свобода, понимаемая не только отрицательно как отсутствие принуждения, но и положительно как радостный порыв, как спонтанный дар тварей, выражающих тем самым свою радость от того, что они не являются Богом. и в возможности иметь Бога над собой, чтобы поклоняться, восхищаться и праздновать.
Евхаристическое поклонение
Католическая церковь имеет особый вид богослужения, называемый евхаристическим поклонением. Каждая великая духовная ветвь христианства имела свою особую харизму, составляющую ее вклад в богатство всей Церкви. Для протестантов это почитание Слова Божия; для православных это иконы; для католиков это поклонение Евхаристии. Каждый из этих трех способов достигает одной и той же общей цели созерцания Христа в Его тайне.
Почитание и поклонение Евхаристии вне мессы - относительно недавний плод христианского благочестия. Она начала развиваться на Западе с XI века как реакция на ересь Беренгара Турского, отрицавшего «реальное» присутствие и признававшего лишь символическое присутствие Иисуса в Евхаристии. С этого времени, однако, можно сказать, что не было святого, в жизни которого мы не замечали бы определяющего влияния евхаристического благочестия. Он был источником огромной духовной энергии, своего рода очагом, который всегда горит посреди дома Божия, которым согревались все великие сыны и дочери Церкви. Поколения и поколения верных католиков чувствовали трепет в присутствии Бога, когда они поют «Адоро те предан» перед изложением Святого Причастия.
То, что я говорю о поклонении и созерцании Евхаристии, почти полностью применимо к созерцанию икон. Разница в том, что в первом случае мы имеем реальное присутствие Христа, а во втором только намеренное присутствие. И то, и другое основано на уверенности в том, что воскресший Христос жив и являет Себя через сакраментальные знаки и через веру.
Оставаясь спокойными и безмолвными перед Иисусом в Святом Таинстве, в течение длительного времени, если возможно, мы можем воспринимать Его желания для нас. Мы отказываемся от наших планов, чтобы освободить место для проектов Христа; свет Божий мало-помалу проникает в сердце и исцеляет его. Происходит нечто, напоминающее нам о том, что происходит с деревьями весной. Зеленые листья прорастают из ветвей; они поглощают из атмосферы определенные элементы, которые под действием солнечного света «прикрепляются» и превращаются в питательные вещества для растения. Без таких зеленых листьев растение не могло бы расти и плодоносить и не способствовало бы выработке кислорода, которым мы сами дышим.
Мы должны быть как эти зеленые листья! Они являются символом евхаристических душ, которые, созерцая «Солнце справедливости», которое есть Христос, «присоединяют» к себе питательное вещество, которым является Сам Святой Дух, на благо всего великого древа, которое есть Церковь. Апостол Павел говорит об этом другими словами, когда пишет: «И все мы с открытым лицом, взирая на славу Господню, изменяемся в подобие Его из одной степени славы в другую; ибо это от Господа, Который есть Дух» (2 Кор. 3:18).
Поэт Джузеппе Унгаретти, созерцая восход солнца однажды утром после тьмы ночи, написал стихотворение из двух очень коротких стихов: «M'illumino / d'immenso»: [8] «Я осветить себя / необъятностью». Это слова, которые мог повторить кто-то в созерцании перед Евхаристией. Одному Богу известно, сколько сокровенных благодатей сошло на Церковь через этих поклоняющихся людей.
Евхаристическое поклонение также является формой евангелизации, и одной из самых эффективных. С этим столкнулись многие приходы и общины, которые включили его в свои ежедневные или еженедельные программы. Видеть церковь в центре города ночью, которая открыта и освещена людьми в безмолвном поклонении до того, как Хозяин побудил не одного прохожего зайти, оглядеться и уйти, восклицая: «Бог здесь!» - просто как поступали неверующие, когда ступили на одно из ранних христианских собраний (см. 1 Кор. 14:25).
Христианское созерцание никогда не бывает улицей с односторонним движением. Это не значит смотреть на свой пупок, как говорится, в поисках самого глубокого себя. В нем всегда участвуют два взгляда, которые встречаются друг с другом. Крестьянин прихода Арс был вовлечен в лучший вид евхаристического поклонения, проводя часы и часы в церкви, не сводя глаз со скинии. Когда святой кюре Арский спросил его, что он делал все это время в церкви, он ответил: «Ничего. Я смотрю на Него, а Он смотрит на меня!»
Если мы иногда опускаем или отводим свой взгляд, Бог никогда не опускает и не отводит свой взгляд. Порой евхаристическое созерцание сводится просто к тому, чтобы быть в обществе Иисуса, сидеть под его взглядом, доставляя ему радость созерцания нас. Даже если мы твари ничтожные и грешные, мы все же плод его страсти, те, за кого он отдал свою жизнь: «Он смотрит на меня!» Это означает принять приглашение Иисуса апостолам в Гефсимании «остаться здесь и бодрствовать со Мною» (Мф 26:38).
Евхаристическому поклонению сама по себе не препятствует сухость, которую мы иногда можем испытывать, будь то из-за нашего самопотворства или потому, что Бог допускает его для нашего очищения. Эта сухость на самом деле может иметь смысл, если мы отказываемся от собственного удовлетворения, чтобы угодить ему, и говорим, как говаривал Шарль де Фуко Иисусу: «Мне достаточно твоего счастья»[9], то есть мне достаточно что ты счастлив. В распоряжении Иисуса вся вечность, чтобы сделать нас счастливыми; у нас есть только этот короткий промежуток времени, чтобы сделать его счастливым, так как же мы можем позволить себе потерять эту возможность, которая никогда больше не вернется в вечности?
Созерцая Иисуса в Таинстве на жертвеннике, мы исполняем пророчество, возвещенное в момент крестной смерти Иисуса: «Взглянут на Того, Которого пронзили» (Ин. 19:37). Такое созерцание само по себе тоже пророческое, потому что оно предвосхищает то, что мы будем делать вечно в небесном Иерусалиме. Это самая эсхатологическая и пророческая деятельность, которую мы можем совершать в Церкви. В конце времен Агнца больше не будут приносить в жертву, и его плоть больше не будут есть. Освящение и общение прекратятся, но созерцание Агнца, закланного за нас, никогда не прекратится. На самом деле это то, что сейчас делают святые на небесах (см. Откр. 5:1 и след.). Когда мы пред скиниею, мы уже составляем единый лик с Церковью наверху: они перед жертвенником, а мы за жертвенником, так сказать; они переживают видение Агнца, в то время как мы воспринимаем его верой.
В 1967 году началось католическое харизматическое обновление, которое за пятьдесят лет коснулось и обновило миллионы жизней и породило множество новых вещей в Церкви, как личных, так и общинных. Мы недостаточно подчеркиваем, что это не «церковное движение» в обычном смысле этого слова; это поток благодати, предназначенный для всей Церкви, «инъекция Святого Духа», которая так необходима. Это подобно электрическому разряду, который предназначен для разряда в массу, то есть Церковь, и, как только эта цель достигнута, он готов исчезнуть.
Я упоминаю об этом здесь, потому что это началось именно с необычайного переживания поклонения живому Богу, которое было темой этой медитации. Группа студентов Университета Дюкен в Питтсбурге, участвовавших в ретрите, однажды вечером оказалась в часовне перед Святым Причастием, когда вдруг произошло что-то необычное, что один из них позже описал так:
Страх Господень воспылал внутри нас; ужасный трепет удерживал нас от того, чтобы смотреть вверх. Он присутствовал лично, и мы боялись, что нас слишком любят. Мы поклонялись ему, впервые познав значение поклонения. Мы испытали жгучий опыт ужасной реальности и присутствия Господа, который с тех пор заставил нас понять из первых рук образы Яхве на горе Синай, когда она грохочет и взрывается огнем Его Бытия, и опыт Исайи 6.:1-5, и утверждение, что наш Бог есть огонь поядающий. Этот святой страх был чем-то таким же, как любовь или вызывал любовь, каким мы его действительно видели. Он был совершенно прекрасен и прекрасен, но мы не видели визуального образа. Как будто великолепный, блестящий, личный Бог вошел в комнату и наполнил и ее, и нас. [10]
Одновременное присутствие величия и благости в Боге и страха и любви в творении: «внушающая благоговейный трепет и захватывающая тайна», как описывают ее религиоведы. [11] Женщина, которая так описала тот момент, не знала, что это идеальное описание черт живого Бога Библии.
Давайте закончим стихом из 95-го Псалма, которым Литургия Часов в Приглашении заставляет нас начинать каждый новый день:
Приидите, поклонимся и поклонимся, Склоняем колени перед Господом, нашим Творцом.
Ибо он наш Бог, а мы Его народ, Он пасет стадо.