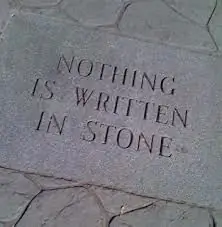Существуют ли моральные абсолюты? Является ли взаимодействие человека с моральными принципами чем-то вроде охоты за сокровищами, когда мы ищем что-то, что уже существует, но, возможно, глубоко спрятано, или моральные принципы являются чем-то, что мы творчески конструируем из различных частей нашего индивидуального и коллективного опыта, а также из мир вокруг нас? Именно на такие вопросы я всегда провожу первые несколько недель любого курса по этике, изучая их со своими студентами.
В первый день семестра я пишу на доске два утверждения об истине:
A: 2 + 2=4
B: Мона Лиза - красивая картина

Утверждения A и B оба утверждают, что что-то верно, но каковы между ними различия? Вскоре мои студенты говорят мне, что Утверждение об Истине A является объективным, основанным на фактах, универсально истинным и доказуемым, в то время как Утверждение об Истине B является субъективным, вопросом. мнения и в первую очередь основано на чувстве, а не на разуме. С A дело в том, что это правда, нравится вам это или нет. Два человека могут яростно расходиться во мнениях по поводу того, является ли B правдой или нет, а затем прекратить обсуждение, не изменив своей убежденности, чувствуя, что разногласие, хотя и настоящее, не стоит того, чтобы из-за него расстраиваться. В конце концов, является ли Мона Лиза красивой картиной или нет, это вопрос мнения. Дело не в этом.
Затем я прошу своих студентов подумать о утверждениях о моральной истине, утверждениях, которые включают такие слова, как «правильно», «неправильно», «должен», «следует» и так далее. Такие заявления, как «Воровство - это плохо» или «Вы всегда должны говорить правду», являются утверждениями об истине, как и A и B выше. Но являются ли заявления о моральной истине более похожими на A или B? Больше похоже на «2 + 2=4» или «Мона Лиза - красивая картина»? Найдите минутку, прежде чем читать дальше, чтобы ответить на этот вопрос для себя.
По консервативным оценкам, я использовал это упражнение в день открытия курса этики не менее двух десятков раз за эти годы. Без исключения подавляющее большинство моих учеников (не менее 90%) в каждом классе говорят, что утверждения о моральной истине гораздо больше похожи на B, чем на A Другими словами, утверждения о моральной истине субъективны, основаны на чувствах и скорее основаны на мнении, чем на фактах. Иными словами, мои ученики по этике, в основном младшие и старшие классы, на протяжении многих лет были беззастенчивыми и прямолинейными моральными релятивистами.
Это явление было темой эссе, которое мы с моими учениками обсуждали на прошлой неделе, Джастина Макбрайера «Почему наши дети не думают, что существуют моральные факты».
Макбрайер, профессор философии в колледже Форт-Льюис, испытал среди своих студентов тот же релятивизм, что и я. В сообщениях о том, что студенты колледжей склонны быть моральными релятивистами, нет ничего нового, но объяснение Макбрайера необычно. Он не винит безудержный моральный релятивизм, который он обнаруживает у своих студентов бакалавриата, в безбожной постмодернистской академии, и при этом он не обвиняет родителей в том, что они не выполняют свою работу (распространенные объяснения, которые были предложены).
Напротив, Макбрайер винит в этом общие основные стандарты начального образования, в которых указывается, что учащихся уже во втором классе следует учить различать факты и мнения следующим образом:
Факты: Что-то, что является правдой о предмете и может быть проверено или доказано.
Мнение: Что кто-то думает, чувствует или во что верит.
Используя в качестве примера своего восьмилетнего сына, Макбрайер отмечает, что по мере того, как дети учатся классифицировать различные утверждения в соответствующих категориях, их учат, что любое утверждение, содержащее нормативный термин, такой какследует, должен или следует - это мнение, а не факт.
Это означает не только то, что утверждение о моральной истине не может быть доказано как истинное (это можно сделать только с фактами), но и то, что такие утверждения вообще не являются утверждениями об истине (обратите внимание, что слово «истина» не имеет значения). даже фигурируют в определении «мнения»). Если нет моральных фактов, то нет и моральных истин, а все моральные утверждения - просто чувства и мнения. Неудивительно, что десять или двенадцать лет спустя эти дети выросли в морально релятивистских студентов колледжа. Как пишет Макбрайер: «Неудивительно, что в кампусах колледжей широко распространено мошенничество: если мы в течение 12 лет учили наших студентов тому, что нет никакого факта в том, является ли мошенничество неправильным, мы не можем очень вините их за это позже».
Я, конечно, очень хотел узнать, что мои пятьдесят студентов по этике, разбросанные по двум классам, думают об эссе Макбрайера. Многие из них смутно помнили, что в детстве их учили различать факты и мнения, хотя никто не думал, что это повлияло на их нравственное развитие, как утверждает Макбрайер. Ряд моих студентов сочли это эссе довольно оскорбительным, поскольку в нем утверждалось, что у студентов колледжей нет никаких моральных компасов, кроме их чувств, хотя никто из них не выступал против представления о том, что студенты являются моральными релятивистами. В конце концов, всего три недели назад мои студенты сказали мне, что утверждения о моральной истине больше похожи на вопросы эстетического вкуса, чем на что-либо фактическое и доказуемое.
В целях обсуждения я упомянул наблюдение Макбрайера о том, что мошенничество свирепствует в кампусах колледжей (отметив, что это «наблюдение» было анекдотичным и в его эссе не было никаких подтверждающих данных). Я понятия не имею, так ли это в моем колледже - это не то, что я трачу много энергии, пытаясь отследить, кроме того, что пытаюсь разработать свои курсы таким образом, чтобы затруднить списывание. Но я предложил своим студентам предположить, ради аргумента, что жульничество в свирепствует в колледже Провиденс. Макбрайер говорит, что это потому, что никто из вас не знает, что обман - это плохо, потому что вас никогда не учили, что существуют такие вещи, как моральные факты. Это единственное возможное объяснение? Или есть другие истории, объясняющие это?
Последовавшая дискуссия в обоих классах была увлекательной и поучительной. Ни один студент не предположил, что человек, который обманывает, не осознает, что обман является морально (и фактически) неправильным. Очень возможно, что человек, который обманывает, делает это, потому что считает, что при определенных обстоятельствах моральные принципы могут быть отвергнуты в интересах других важных факторов. Как, например, сопоставить важность «правильных поступков» с тем влиянием, которое провал на важном выпускном экзамене может оказать на средний балл и будущие перспективы в аспирантуре и карьере? Возможно, легко определить по незадействованным дешевым сиденьям, но вряд ли так просто, если погрузиться в детали. Какое бы решение ни принял ученик, дело не в незнании того, что в игру вступает моральная истина.
В более широком смысле мы также размышляли о том, как объяснить влечение студентов колледжа к моральному релятивизму, кроме как предположить, что его можно проследить до плохого обучения во втором классе. Мои студенты по этике - младшие и старшие, которые, по крайней мере, пару лет в колледже за плечами, признают, что, будучи молодыми взрослыми, колледж дает им возможность - такую, которую многие люди никогда не имеют или никогда не используют в своих интересах - взять на себя сознательную ответственность. о том, во что они верят, и о своих моральных обязательствах.
Наша дискуссия напомнила мне слова Ричарда Рорти, однажды сказанные об американской системе государственного образования. Рорти предположил, что цель образования K-12 состоит в том, чтобы приобщить детей и подростков к нормам, практикам и ожиданиям нашего общества и культуры, в то время как цель высшего образования состоит в том, чтобы напрямую подвергнуть сомнению эти нормы, практики и ожидания и бросить им вызов. Это именно то, чем я занимаюсь как профессор колледжа: помогаю своим студентам определить, а затем научиться использовать важные инструменты обучения в течение всей жизни, среди которых ставить все под сомнение, пожалуй, самое важное. Этот процесс часто очень похож на релятивизм. Так и быть.
Я подозреваю, что мои друзья и коллеги, если бы их попросили сделать выбор, охарактеризовали бы меня скорее как релятивиста, чем как абсолютиста, когда дело доходит до моральных фактов. Меня это устраивает, поскольку я считаю, что опасности необоснованной уверенности намного перевешивают ловушки релятивизма. Человек может быть уверен в истинности чего угодно, включая довольно одиозные и дьявольские убеждения. Вопрос не в том, существуют ли моральные факты? а скорее «Если предположить, что моральные факты существуют, каковы они?»
Что подсказывает мне руку в этих дебатах - я хочу получить свой пирог и съесть его тоже. Я верю в существование моральных абсолютов, но также считаю, что их гораздо труднее идентифицировать, чем большинство из нас представляет. Пожизненный поиск моральной ясности и уверенности часто выглядит и ощущается как релятивизм. Искушение остановиться на этом пути и объявить свои нынешние убеждения моральными абсолютами очень велико, но этому искушению нужно сопротивляться. Любой ценой.