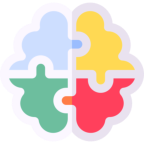Эта позиция [универсализм] неизменно считалась еретической Церковью в течение двух тысяч лет… Вы можете вернуться к Афанасию, вы можете вернуться к Августину, вы можете вернуться к Гусу и Тиндалу, и другие.
- Марк Дрисколл
Хотя доктрина всеобщего примирения действительно была позицией меньшинства на протяжении большей части христианской истории – хотя и не совсем две тысячи лет! – все, что нужно сделать, это обратиться к Августину, явному неуниверсалисту, чтобы увидеть как когда-то это было довольно популярной доктриной. Он в пятом веке довольно пренебрежительно пишет:
Поэтому совершенно напрасно некоторые, а на самом деле очень многие, поддаются чисто человеческим чувствам и сожалеют о вечном наказании проклятых и их бесконечных и вечных страданиях. Они не верят, что такие вещи будут. Не то чтобы они противоречили Божественному Писанию, но, уступая своим человеческим чувствам, они смягчают то, что кажется резким, и делают более мягкий акцент на заявлениях, которые, по их мнению, предназначены скорее для того, чтобы напугать, чем выразить буквальную истину.
- Августин, Энхиридион, сек. 112.
Когда Августин описывал универсалистов как «действительно очень многих» (immo quam plurimi), он имел в виду, что они составляли «подавляющее большинство» (Ramelli, Christian Doctrine, 11). Именно это подразумевает латинское слово plurimi, происходящее от прилагательного plurimus. И хотя сам Августин этого учения не утверждал (хотя вначале [Там же.].), он, по крайней мере, признавал, что Универсализм, или «теория апокатастасиса», был весьма влиятельной доктриной в его дни и в предшествующие ему столетия.
Краткий обзор наиболее влиятельных раннехристианских универсалистов, сделанный ученым-патристиком Иларией Рамелли, безусловно, подтверждает признание Августина:
Основные святоотеческие сторонники теории апокатастаса, такие как Вардесан, Климент, Происхождение, Дидим, св. Антоний, св. Памфил-мученик, Мефодий, св. Макрина, св. Григорий Нисский (и, вероятно, два других Каппадокийцы), св. Евагрий Понтийский, Диодор Тарсийский, Феодор Мопсуестийский, св. Иоанн Иерусалимский, Руфин, св. Иероним и св. Августин (по крайней мере первоначально)… Кассиан, св. Исаак Ниневийский, св. Иоанн Далиафский, Пс. Дионисий Ареопагит, вероятно, св. Максим Исповедник, вплоть до Иоанна Скотта Эриугена и многие другие основывали свое христианское учение об апокатастасисе прежде всего на Библии.
- Рамелли, Христианская доктрина, 11.
A кто есть кто, это впечатляюще заставляет нас задать два вопроса. Во-первых, была ли это просто уступка человеческим чувствам, которая заставила «действительно очень многих» «сожалеть о вечном наказании проклятых», как предполагает Августин, или это было что-то еще? Учитывая научность приведенного выше списка, я должен был бы заключить, что Августин выдвигал несправедливое обвинение против своих собеседников-универсалистов, предлагая это. Безусловно, их коллективные полномочия заслуживают большего уважения! И, во-вторых, действительно ли христианская церковь считала универсализм еретическим на протяжении всей ее двухтысячелетней истории, как это категорически заявляет Дрисколл?
Простая истина заключается в том, что нет, Дрисколл не прав, предполагая, что универсализм был еретическим на протяжении всего христианского мира. На самом деле это далеко не так, поскольку теория апокатастаса не была объявлена еретической до шестого века сначала Юстинианом (деспотичным византийским императором), а затем на Пятом Вселенском Константинопольском соборе. И даже тогда причиной доктринальных споров были не столько эсхатологические выводы св. Оригена, Климента Александрийского и других универсалистов, сколько, как указывает историк Морвенна Ладлоу, идеи Оригена о «до- существование душ, их «падение» в человеческие тела и духовное воскресение» (Ладлоу, «Универсализм», 195). Попросту говоря, всеобщее примирение было несправедливо осуждено, потому что оно было связано с этими другими спорными идеями.
Апостольский и Никейский Символы веры были написаны всего за несколько сотен лет до этого, и ни один из них не исключает возможности «восстановления всего», упомянутого автором Деяний Луки (Деяния 3:21). Самая ранняя греческая версия Апостольского символа веры, например, читается следующим образом:
Верую в Бога Отца Вседержителя и в Иисуса Христа, единственного сына его, Господа нашего, Который был от Духа Святого, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят и погребен. На третий день он снова воскрес из мертвых; он вознесся на небо и сидит одесную Отца. Верую в Святого Духа, Святую Церковь, прощение грехов; воскресение тела. Аминь.
Более поздний Никейский символ веры не сильно отличается (хотя, чтобы дать отпор еретическому учению Ария, он делает акцент на том, что Сын и Отец являются «одной субстанцией»). Но ничто в нем не исключает возможности спасения всех. Только в Афанасьевом символе веры 500 г. н.э. фраза «сотворившие зло в огонь вечный» введена в форме символа веры.
Но если возможность вечного адского огня и проклятия была такой надвигающейся угрозой, почему об этом не упоминалось в самых ранних греческих символах веры? Почему же теория апокатастаса не была отвергнута раньше, если Библия была такой ясной? Почему, например, в длинной книге Иринея II века под названием «Против ересей» не был включен универсализм? Почему богословы вроде Происхождения, Климента и Григория Нисского - последнего редактора Никейского символа веры, ради бога! - не были прямо осуждены за их веру во всеобщее примирение? И как они вообще могли прийти к таким выводам, если истинное церковное учение, пропитанное адским пламенем, столь же ясно, как Дрисколл пытается заставить нас поверить? Было ли дело просто в том, как выразился Августин, в том, что они уступили человеческим чувствам? Было ли это что-то другое, может быть, что-то злонамеренное? Или, о чудо, они действительно что-то затеяли, и поэтому на них следует обратить внимание более пристально, чем сейчас?
Очевидно, я считаю, что они «на что-то наткнулись» и им следует уделять больше нашего коллективного внимания. Одна из основных причин, хотя и не единственная, может быть сведена к языковым проблемам.
Поясню.
В то время как теологи «адского огня», такие как Августин, в основном говорили на латыни, такие люди, как Ориген, Климент, а позже и Григорий Нисский, говорили по-гречески. Это означает, что существует прямой лингвистический и даже философский путь от греческого Нового Завета, находящегося под сильным влиянием апостола Павла, к этим самым ранним богословам. Историк Дж. В. Хэнсон напоминает нам:
Величайший из всех христианских апологетов и экзегетов и первый человек в христианском мире после Павла был явным универсалистом. Он [Ориген] не мог неправильно понять или исказить учение своего Учителя. Язык Нового Завета был его родным языком. Он вывел учение Христа от самого Христа по прямой линии через своего учителя Климента; и он поставил защиту христианства на универсалистских основаниях.
- Хэнсон, Универсализм, 133.
Напротив, этого нельзя сказать о святом Августине. Он презирал греческий язык (Августин, Исповедь, 15). Фактически, он дошел до того, что сказал, что, хотя он любил латынь, он совершенно ненавидел греческий (Ibid., 17). Итак, по сравнению со своими грекоязычными предшественниками, когда дело дошло до перевода или толкования греческого Нового Завета, Августин был немного не в своей тарелке и допустил несколько существенных ошибок. Хэнсон отмечает следующее:
В истории критики аномально, что поколения ученых берут пример в вопросе определения греческого языка с того, кто признает, что он «почти ничего не выучил по-гречески» и был «некомпетентен в чтении и понять» язык и отвергнуть позицию тех, кто родился греками! То, что такой человек может противоречить и ниспровергать учения таких людей, как Климент, Ориген, Григории и других, чьим родным языком был греческий, кажется странным.
- Хэнсон, Универсализм, 274.
Давайте посмотрим на пример, который даже уместен, когда мы думаем об Универсализме, проклятых и всем прочем. Начну с того, что снова обращусь к Хэнсону:
Августин предполагал и настаивал на том, что слова, определяющие продолжительность наказания в Новом Завете, учат его бесконечности, и утверждение, выдвинутое Августином, до сих пор придерживается сторонников «умирающей веры», что aeternus на латыни и aionios в греческом оригинале означают бесконечную продолжительность.
- Хэнсон, Универсализм, 273.
Но так ли это? Верно ли, что aeternus и aionios являются синонимами и что оба они имеют количественный контекст вечного времени? Ну, нет, по словам грекоязычного библеиста Уильяма Барклая:
Использовать слово aionios, когда оно относится к благословениям и наказаниям, и означать, что оно длится вечно, означает чрезмерное упрощение и даже неправильное понимание всего этого слова. Это значит гораздо больше. Это означает, что то, что получат верные и от чего пострадают неверные, является тем, что подобает природе и характеру Бога даровать и причинять, и дальше этого мы, люди, не можем пойти, кроме как помнить, что эта природа и характер являются святая любовь.
- Барклай, Слова Нового Завета, 37.
Итак, другими словами, думать об aionios в количественном смысле - так же, как можно думать о латинском «эквиваленте» aeternus - а не качественно, а не в контексте вечной любящей природы Бога, было бы настроить себя на роковую ошибку. И Западная Церковь во главе с Августином (и Тертуллианом до него) допустила эту роковую ошибку, которая привела к непониманию жизненно важного учения о посмертном восстановительном наказании Бога.
Ничто из этого не умаляет того, что Августин сделал для церкви, или говорит, что он не был блестящим богословом. Конечно нет! Но христианское богословие началось не с него, и он не является высшим авторитетом в том, что такое «здравое учение». Григорий Нисский, «Августин Востока», например, много говорил о солидном богословии, в том числе о своем видении конечной судьбы человечества. Так поступали и Ориген, и Климент, и Дидим Слепой, и многие другие, даже очень многие! Жаль, что мы не вспоминаем об этом чаще, и жаль, что наши христианские религиозные лидеры либо не признают этого, либо не могут точно сообщить об этом. Церковь заслуживает лучшего. Она заслуживает точного и надежного исторического снимка, а не прикрытого полуправдой и откровенной ложью.
Села.
-----–
Процитированные работы
Августин. Признания. Перевод Генри Чедвика. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1991.
---. Исповедь и Энхиридион. Переведено и отредактировано Альбертом К. Аутлером. Филадельфия: Вестминстер Пресс, 1955.
Барклай, Уильям. Слова Нового Завета. Луисвилл: Вестминстер Джон Нокс, 1964.
Хэнсон, Дж. В. Универсализм: господствующая доктрина христианской церкви в течение первых пятисот лет ее существования. Бостон и Чикаго: Универсалист, 1899 г.
Ладлоу, Морвенна. «Универсализм в истории христианства». Во всеобщем спасении?: Текущие дебаты. Под редакцией Робина Пэрри и Кристофера Партриджа. Гранд-Рапидс: Эрдманс, 2003.
Рамелли, Илария. Христианское учение об апокатастасисе: критическая оценка от Нового Завета до Эриугены. Лейден: Брилл, 2013.
Фото через Unsplash.

О Мэтью Дистефано
Мэттью Дистефано является автором книг «Все освобождено: как Бог открывается в Иисусе и почему это действительно хорошие новости», «Из крови Авеля: коренные причины насилия человечества и библейское теолого-антропологическое решение» и недавно - выпустил «Путешествие с двумя мистиками: беседы между жирардианцем и ваттсианцем». Он также является постоянным автором Raven ReView и ProgressiveChristianity.org. Вы можете найти его на его веб-сайте, в Facebook и Twitter.