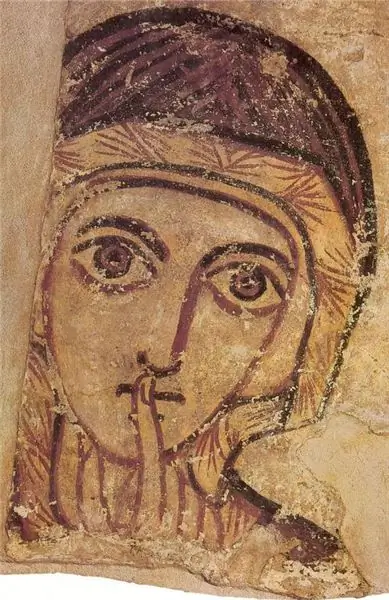“Но Господь во святом храме Своем; да молчит пред Ним вся земля» (Евр. 2:20). Когда мы предстаем перед Богом, правильный ответ - погрузиться в полную тишину. Мы должны ждать Бога, позволять Богу быть Богом и действовать как Бог без каких-либо навязываний со стороны наших ожиданий. «Одного Бога ожидает душа моя в безмолвии, ибо на Него надежда моя» (Пс. 61:5). Это молчание связано не только с отсутствием произносимых слов. Мы должны прийти к Богу, заглушив все свои мысли, чтобы действительно прийти к Нему пустыми, готовыми быть наполненными Им в этой пустоте.
«Ибо есть воля Божья, чтобы вы, поступая праведно, заставили замолчать невежество глупых людей» (1. Птр. 2:15 РСВ). Не невежественны ли мы, поставленные рядом с непостижимой природой Бога? Когда мы говорим, когда мы пытаемся провозгласить свои мысли Богу, не поступаем ли мы глупо, используя свои мысли как преграду, мешающую полному присутствию Бога в нашей жизни? Мы должны обдумать сказанное Петром и применить это в первую очередь к себе.
Истинная мудрость, мудрость Божья, обретается только тогда, когда мы замолкаем от глупости наших мыслей, от всей нашей притворной мудрости. Это мудрость за пределами знания и, следовательно, за пределами всех гуманистических занятий, хотя она будет вдохновлять и способствовать развитию таких занятий. Так, в сочинении, приписываемом св. Антонию Великому, читаем: «Чрез молчание приходите к разумению; поняв, вы даете выражение. Именно в тишине интеллект рождает разум; и благодарный разум, предложенный Богу, есть спасение человека». [1] Это кажется нам парадоксом. Как мы можем иметь понимание, когда мы заставили себя замолчать и отложили в сторону все свои мысли? Потому что наши мысли приходят к нам через наш падший, дуалистический способ интеллектуальной деятельности. Они скрывают и скрывают правду и мешают нам узнать, что скрывается за ними. Вот почему так важно привести себя в полную тишину, особенно в уме. Тем самым мы покончим с нашим обычным образом мышления с его дуалистическими формами истолкования мира. Благодаря благодати Божией молчание наших мыслей становится не субрациональным, а сверхрациональным, по мере того как мы познаем и переживаем истину и познаем ее способом, превосходящим всякое такое мышление. «Так правильно, - объяснял св. Диадох Фотокий, - всегда с верой, питаемой любовью, ждать озарения, которое даст нам возможность говорить. Ибо ничто так не лишает ум, философствующий о Боге, когда он без Него».[2]
Как же тогда мы переживаем эту тишину? Мы наблюдаем за собой, медленно очищая свой разум от мыслей, которые в противном случае возникают в нем. Мы игнорируем их, мы позволяем им пройти, больше не цепляясь за них, не привязываясь к ним. Поступая так, мы найдем, что становимся более естественными в деятельности, а значит, и более добродетельными, ибо это один из способов очищения себя от скверны греховной.«Бдительность - это способ охватить каждую добродетель, каждую заповедь. Это тишина сердца, и, когда она свободна от ментальных образов, она охраняет интеллект».; хотя это может показаться путем невежества и незнания, он ведет к мудрости и истинному знанию, знанию, которое знает истину из опыта, а не из слов других или предположений. Это путь познания, который, если мы им воспользуемся, приведет нас к положению, в котором мы больше не попадаем в ловушку дуалистических размышлений, запутавшихся в том, что нам следует делать из-за нашего невежества, и, скорее, мы будем действовать с истинным пониманием, без второстепенных усилий. думал, делая то, что правильно и хорошо.
Это часть нашей цели. Найти тишину, которая позволяет нам преобразовываться благодатью в нашей встрече с Богом. Мы движемся вперед с этим безмолвием в нашей вере, надежде и любви, когда мы верим, что Бог добр, надеемся, что Божья благость приведет нас к Нему для нашего вечного покоя, и поэтому ищем Его в любви, где мы отрешиться от всего, в том числе и от мыслей, которые отделяют нас от Бога, как св. Максим Исповедник заявил:
Пока наш разум в чистоте не превзойдет наше собственное существо и разум всего, что следует за Богом, мы еще не достигли постоянного состояния святости. Когда это благородное состояние утвердится в нас посредством любви, мы познаем силу божественного обетования. Ибо мы должны верить, что там, где разум, взяв на себя руководство, посредством любви укоренил свою силу, там святые найдут неизменную обитель. Тот, кто не превзошел себя и все то, что в некотором роде подвластно рассудку, и не пришел пребывать в безмолвии за пределами рассудка, не может быть полностью свободен от изменений.[4]
Хотя для того, чтобы это стало возможным, необходима Божья благодать, мы также должны сотрудничать с этой благодатью, поскольку она преображает нас, возвышая нас от нашего падшего способа бытия, очищая нас от самой модальности мышления, которую мы имеем как результат падения. Мы дисциплинируем себя в посте, молитве, бдении, поклонении Богу и тому подобном отчасти для того, чтобы помочь остановить низменные формы деятельности, привычки ума и тела, которые развились вследствие греха; мы молимся и входим в безмолвие, чтобы медленно испытать новый образ жизни, новый способ бытия, осознать в таком опыте и через него то, что мы действительно можем знать без размышлений, действительно, мы можем процветать в таком недуалистическом способе существования.
![Фото ВВС США, сделанное Ларри МакТайем (ВВС США) [общественное достояние], с Викисклада Фото ВВС США, сделанное Ларри МакТайем (ВВС США) [общественное достояние], с Викисклада](https://cdn.psychologyhub.ru/images-13/003/image-7979-2-j.webp)
У нас уже есть различные формы этого опыта в нашей повседневной деятельности, когда мы действуем и реагируем без размышлений - когда мы знаем, что делать, и обнаруживаем, что делаем это на свободе, при этом все это знание не транслируется. в мысли и слова, когда мы действуем. Действительно, во многих таких ситуациях мы обнаружили бы, что если бы нам пришлось преобразовать наши знания в мысли, то время, которое это заняло бы, помешало бы нашей деятельности и часто поставило бы нас на путь вреда. Возьмем, к примеру, то, как мы водим наши машины. Да, во время вождения нам часто приходят в голову мысли, но бывают случаи, когда мы действуем исходя из чистой природы, не задумываясь, когда такое действие необходимо и у нас нет времени для возникновения мысли, например, когда мы видим какая-то машина на дороге внезапно сворачивает с обледенелой дороги и едет прямо на нас. Мы действуем и реагируем, и только позже возникают мысли. Если бы мы начали кричать, ругаться, сосредотачиваться на том, что видим, и осуждать другого, идущего к нам, нас, скорее всего, ударили бы и причинили боль. И поэтому можно сказать, что «слова мудрых, слышанные в тишине, лучше восклицания правителя среди глупых» (Еккл. 9:17). Это состояние показывает, что мы можем и действительно выходим за рамки нашего обычного мышления в нашей повседневной жизни - и это то, что мы должны принять не только в чрезвычайных ситуациях, но и как норму. Вот что значит заставить наши мысли замолчать - мы не теряем рассудок, а, скорее, обнаруживаем, что наш ум работает таким образом, который превосходит то, что происходит, когда мы следуем нашему падшему способу переживания и мышления.
Благодаря благодати мы можем и должны найти способ подняться над нашим обычным образом жизни. Мы должны заставить наши громкие умы замолчать, если мы хотим истинной мудрости и знания. Есть много способов, которые различные святые показывают нам, как мы можем это сделать. Типичная мода встречается в молитве, когда мы учимся медленно закрываться от отвлекающих факторов, сосредотачиваясь на словах конкретной медитативной молитвы, которая была передана нам. Например, это можно сделать с помощью Иисусовой молитвы, где мы сосредотачиваем свой ум и мысли на словах: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Сосредоточившись на словах, и только на словах, мы медленно находим способ собрать свои мысли и держимся только за слова, позволяя всем другим мыслям, которые приходят в нашу голову, исчезнуть так же быстро, как они пришли без какой-либо привязанности. С этого начинается тренировка, необходимая нам для того, чтобы научиться игнорировать свои мысли, ибо, сделав это, мы сможем научиться входить в настоящую тишину. Со временем мы должны быть в состоянии сократить молитву и наше внимание, пока мы не сосредоточимся только на одном слове - имени Иисуса, а затем после этого мы можем даже перестать использовать имя и просто открыться Богу в тишине. Затем мы ждем в этой тишине у храма Божия, который внутри нас самих. Конечно, нет никакой уверенности в том, что мы переживем Бога в конкретном посредничестве - мы не должны думать о медитации как о технике, которая дает нам контроль над Богом, скорее, ее цель - открыть нас и держать в готовности к действию. естественное, трансцендентное состояние, готовое к тому, что Бог сделает с нами дальше.[5] То, что мы узнаём в этой медитативной молитве, мы можем затем использовать в других ситуациях - в литургии, где мы открываемся Богу в общении, в нашей повседневной жизни с другими, так как мы должны действовать и реагировать исключительно в естественная основа любви без задней мысли.
Мы также можем обнаружить, что развиваем этот дух в том, как мы взаимодействуем с другими. Мы должны научиться заглушать наши мысли, которые указывают нам на боль и горе, которые мы испытываем, когда сталкиваемся с кем-то, кто враждебен нам. Это нелегко, на самом деле это чрезвычайно трудно для большинства из нас, но это та же тишина, та же трансформация, та же трансцендентность, которая открывает нам нашу истинную, естественную форму - и поэтому для многих обучение в тишине обнаруживается не в медитативной молитве, потому что они обнаруживают, что ментальные отвлечения, которые приходят к ним, трудно преодолеть, - но в жизни и через жизнь в реальном мире, где они учатся умирать для себя и становиться подобными мертвым по отношению к навязанным другим. разместить на них. Есть, как писал Иеремия, надежда, если мы сможем достичь такой святой чистоты. Мы можем постепенно обнаружить, что благодать овладевает нами, когда мы возвращаем любящее молчание после того, как испытали такую враждебность; оно формирует и перекраивает нас и наш способ существования в мире, выводя нас за пределы дуалистических реакционеров, к которым мы привыкли быть: «Благо человеку, если он несет ярмо в юности своей. Пусть он сидит один в тишине, когда он возложил его на него; пусть сунет рот в прах - может еще быть надежда; пусть подставит щеку свою бьющему и будет полон оскорблений» (Плач. 3:27-30 RSV). Если это будет наш путь, мы, вероятно, начнем его в юности и увидим, по крайней мере, в начале прогресс будет медленным и трудным, но со временем изменения будут заметны. И поэтому мы, вероятно, обнаружим, что от такого оскорбления в начале нашего пути мы будем злиться. Цель состоит в том, чтобы преодолеть такую реакцию. Обычно это означает научиться преодолевать эти мысли, отпускать их, прежде чем мы отдохнем в конце дня, поэтому псалмы говорят нам: «Гневайся, но не согрешай; общайтесь с вашими сердцами на ложах ваших и молчите. Села» (Пс. 4:4). Итак, если мы научимся контролировать себя в таких ситуациях, какими бы трудными они ни были, мы обнаружим процесс подавления таких враждебных мыслей, делая его все быстрее и быстрее, пока, наконец, мы не будем отбрасывать их, как только они приходят к нам в голову, заставляя Конечно, мы действительно достигаем тишины и обнаруживаем, что получаем от нее благословение: «Соединив простоту с самообладанием, вы испытаете благословение, которое производит их союз».[6]
Другие сражения с другими непомерными страстями также могут дать нам такой же опыт, а также дать такое же понимание того, как бороться с дуалистическим мышлением, которое мы имеем в результате первородного греха и вожделения. Все грехи вызывают у нас мысли, которые наводят нас на мысль о том, почему мы должны участвовать в них, и на все они следует отвечать, находя способ очистить свой ум, заставить замолчать все наши мысли. Тогда соблазнов больше не будет.
Победа одержана, когда мы нашли способ для себя принять такое безмолвие, преодолевая мысли, отвлекающие нас от истинного знания. Скорее всего, мы достигнем предвкушения этого в течение коротких периодов времени, прежде чем найдем это как нашу норму, а затем мы найдем это как весь наш образ жизни. Тогда мы действительно приготовим себя к нашему союзу с Богом. Именно это молчание, независимо от того, как Бог направляет нас к его достижению, делает нас готовыми к Нему. «При многословии не миновать греха, но сдерживающий уста свои благоразумен» (Притчи 10:19). Вот почему это великое и святое дело: мудрость говорит нам, что путь к Богу - это заставить себя замолчать, научиться молчать на словах, а затем и в уме. Прегрешения будут постоянно преследовать нас, пока мы не найдем такое молчание. Но как только мы это сделаем - о, как только мы это сделаем!
[1] Св. Антоний Великий, «О свойствах людей и о добродетельной жизни: сто семьдесят текстов», в «Добротолюбии: Полный текст». Том первый. транс. Г. Э. Х. Палмер, Филип Шеррард и Каллистос Уэр (Лондон: Фабер и Фабер, 1983), 345-6. Хотя приписывание этого текста Антонию сомнительно, я полагаю, что, вероятно, существует связь между ним и коренным текстом или собранием высказываний, сделанных Антонием (возможно, и, вероятно, добавленным и дополненным многими другими, прежде чем он дошел до нас). в этой окончательной форме). Есть отрывки, которые читаются так, как мы ожидаем от Антония, и, безусловно, следуют его духу, в то время как другие кажутся сомнительными. Кем бы ни был автор текста на самом деле, место его в Добротолюбии правомерно благодаря содержащейся в нем мудрости.
[2] Св. Диадох Фотокий, «О духовном познании», в «Добротолюбии: Полный текст». Том первый. транс. Г. Э. Х. Палмер, Филип Шеррард и Каллистос Уэр (Лондон: Faber and Faber, 1983), 254.
[3] Священник Исихий, «О бодрствовании и святости», в «Добротолюбии»: Полный текст. Том первый. транс. Г. Э. Х. Палмер, Филип Шеррард и Каллистос Уэр (Лондон: Faber and Faber, 1983), 162-3.
[4] Св. Максим Исповедник, «Век первый о богословии» в «Добротолюбии»: Полный текст. Том второй. транс. Г. Э. Х. Палмер, Филип Шеррард и Каллистос Уэр (Лондон: Faber and Faber, 1999), 131.
[5] И, конечно же, это открывает нам способ существования, который мы можем и должны взять с собой как часть нашей постоянной молитвы к Богу. Все наше хождение с Богом должно быть в этой внутренней тишине, которая тогда будет проявляться не только в нашем переживании Бога и через него, но и в новом и чистом переживании мира. Мир откроет нам свое истинное Богом данное великолепие. Точно так же мы обнаружим, что наша повседневная прогулка, наши действия будут проявляться по-разному, поскольку все наши действия будут заключаться в трансцендентном способе познания, который мы только сейчас испытываем частично (например, когда мы ведем машину). Когда мы найдем эту тишину во все времена, тогда все наши действия будут сверхразумной деятельностью того, кто истинно знает Бога.
[6] Илия Пресвитер, «Гномическая антология I», в «Добротолюбии: Полный текст». Том третий. транс. Г. Э. Х. Палмер, Филип Шеррард и Каллистос Уэр (Лондон: Faber and Faber, 1986), 41.
Немного ничего